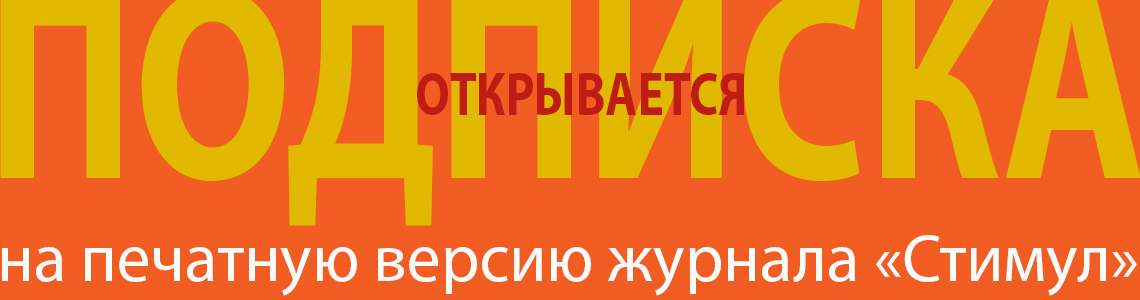Крыса с разъемом, ИИ и сосиски

Институт искусственного интеллекта МГУ специализируется на фундаментальных и прикладных исследованиях, «Пифия» — один из самых известных его проектов, реализуемый совместно с биотехнологической лабораторией Neiry. В ходе этого проекта ученые и разработчики впервые в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту. Крыса как бы умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры. Почему «как бы», станет понятно далее.
Мы встретились с ведущими участниками проекта «Пифия» — Михаилом Лебедевым (руководитель междисциплинарного проекта МГУ «Фундаментальные и прикладные нейротехнологии», профессор механико-математического факультета, PhD) и Василием Попковым (руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института ИИ, кандидат биологических наук).
— Об искусственном интеллекте много пишут, и много обсуждают, что это такое. И многие его толкуют по-разному. Что такое искусственный интеллект в вашем понимании?
Михаил Лебедев: Искусственный интеллект — это следующий шаг в развитии компьютеров, который позволяет им стать еще умнее и приблизиться к интеллектуальным возможностям человека. Компьютеры превзошли человека в скорости вычислений, в памяти, в доступе к базам данных и так далее. Эти преимущества компьютеров используются для имитации вещей, которые делает человек. Например, человек может посмотреть на картинку или на то, что вокруг, и сказать: это стул, это стол, это стена. До какого-то времени искусственным системам было очень трудно анализировать такие вещи. Теперь системы искусственного интеллекта, которые содержат огромное количество искусственных нейронов, соединенных друг с другом и натренированных на огромном количестве данных, могут решать эту задачу довольно хорошо.
![]() Главный плюс нейросетевых подходов в том, что поскольку нейросеть — это самоподстраивающийся черный ящик, то нам не так важно реально знать, как работает мозг и сознание, потому что есть шанс, что нейросеть сама что-то там подкрутит
Главный плюс нейросетевых подходов в том, что поскольку нейросеть — это самоподстраивающийся черный ящик, то нам не так важно реально знать, как работает мозг и сознание, потому что есть шанс, что нейросеть сама что-то там подкрутит
Другой вариант. Человек может нарисовать на холсте какое-то изображение. Искусственный интеллект теперь тоже может генерировать изображения. Мы слушаем речь, мы ее понимаем. Искусственный интеллект тоже может слушать и генерировать речь. То есть многие базовые функции человека уже имитируются искусственным интеллектом весьма успешно, и можно добавлять к ним что-то еще и еще.
— А что скажет об этом Василий Андреевич?
Василий Попков: Повторю за Михаилом Альбертовичем: на самом деле, когда говорят «искусственный интеллект», обычно имеют в виду любые алгоритмы обработки данных, алгоритмы принятия решений.
Поскольку мы занимаемся стыковкой мозга и искусственного интеллекта, для нас вопрос заключается в том, как понять, какая информация есть в мозгу и какими алгоритмами ее можно декодировать. Или наоборот: как закодировать информацию, чтобы передать что-то в мозг. Использование нейросети — это один из подходов, который неплохо работает, потому что она достаточно мощный инструмент.

Главный плюс нейросетевых подходов в том, что поскольку нейросеть — это самоподстраивающийся черный ящик, то нам не так важно реально знать, как работает мозг и сознание, потому что есть шанс, что нейросеть сама что-то там подкрутит. Ведь основная проблема нейробиологии состоит в том, что, хотя человечество многое знает о работе мозга, нам все равно далеко до полного понимания его работы. Поэтому аккуратно написать уравнение, как закодировать или декодировать информацию для мозга, сейчас невозможно. И неизвестно, возможно ли в принципе. Но когда у нас есть огромная нейросеть и мы хотим, например, управлять каким-то протезом, то неважно, как она дешифровала информацию, главное, что информация воспринята.
— А применительно к вашей работе?
М. Л.: Я уже лет двадцать работаю в области нейроинтерфейсов. А в нейрофизиологии я сорок лет. Нейроинтерфейс — это такая система, которая подключается непосредственно к мозгу и может считывать с него информацию и дальше использовать ее в каких-то полезных целях, например управлять протезом или позволять парализованному человеку коммуницировать. Мы также можем посылать информацию обратно в мозг. Скажем, мозг управляет искусственным протезом, искусственный протез трогает какие-то предметы, с протеза идет сенсорная информация, ее можно отправлять обратно в мозг, и протез становится естественной конечностью, которая и управляется мозгом, и чувствуется мозгом же. Ключевую роль в этом играет математический алгоритм, который является интерфейсом между мозгом и внешними объектами.
![]() По моей оценке, на горизонте десяти лет у нас появятся протезы зрения. То есть они уже есть, и людям их имплантировали, просто они пока не вышли в массу. Как раз в силу того, что недокручены технологии
По моей оценке, на горизонте десяти лет у нас появятся протезы зрения. То есть они уже есть, и людям их имплантировали, просто они пока не вышли в массу. Как раз в силу того, что недокручены технологии
С развитием систем искусственного интеллекта стало совершенно очевидно, что нужно как-то интегрировать эти системы нейроинтерфейсов с искусственным интеллектом, чтобы они стали лучше. И в первую очередь это необходимо для медицинских приложений, таких, например, как слуховой имплант, зрительный имплант, протезы для моторных навыков и многое-многое другое.
— Вопрос Василию Андреевичу. Вы занимаетесь нейроинтерфейсами с фокусом на практические системы для медицинского применения. Что это означает?
В. П.: Замечу, что я себя вообще не самоидентифицирую как нейробиолога, я себя самоидентифицирую как биоинженера, то есть я гораздо лучше понимаю в повреждениях мозга и в отторжении тканей, материалах и терапии, чем именно в когнитивных вещах. Медицинское применение нейроинтерфейсов — это применение, например, разных электродов для лечения разных заболеваний. Уже сейчас с помощью глубинной стимуляции мозга электродами можно, скажем, купировать симптомы болезни Паркинсона. Для этого людям имплантируют электроды достаточно глубоко в мозг, и это позволяет убрать тремор. То есть это не лечит, но у человека пропадает тремор и он может нормально функционировать.
— Но при каком-то электрическом воздействии…
В. П.: Да, с помощью которого как раз происходит стимуляция. Похожие устройства используются при эпилепсии, в основном для картирования очага эпилепсии, чтобы его вырезать. В мозг имплантируют довольно много электродов, чтобы найти этот очаг. Наконец, это делают для лечения хронических болей, которые не поддаются лекарственному воздействию. При нейропатических болях, например, вдоль нерва имплантируют электрод, через который подбирается электростимуляция, чтобы снимать боль. И это прямо сейчас делают…
По моей оценке, на горизонте десяти лет у нас появятся протезы зрения. То есть они уже есть, и людям их имплантировали, просто они пока не вышли в массу. Как раз в силу того, что недокручены технологии. Но уже есть несколько десятков, может, даже сотни людей с протезами зрения. В России тоже есть свои разработки, например компании «Сенсортех». Протезы слуха более или менее есть. Это кохлеарные импланты. Они как раз довольно массовые, и их тоже можно с некоторой натяжкой считать нейроинтерфейсами, и там похожие электроды используются. Третье — это протезы конечностей — как управление протезом, так и очувствление его. Причем, наверное, очувствление даже чуть важнее. Потому что считать команды для протеза можно с остатков мышц. Но чтобы нормально управлять, очень важен обратный отклик. В России этим занимается в том числе фирма «Моторика» (компания — национальный чемпион. — «Стимул»).
Они провели на своих пациентах на Дальнем Востоке, в ДВФУ, эксперимент по очувствлению протеза, на который с имплантированных электродов передавали ощущение — твердое, мягкое, большое, маленькое, и человек отличал. Наконец, полностью парализованные люди при тетраплегии получают возможность мышкой двигать, текст набирать, то есть работать с компьютером. А это таким людям более чем важно.

Я думаю, что в пределах десяти лет все это выйдет в нормальное медицинское применение. А мы, по сути, делаем именно то, что нужно в первую очередь, — электроды, которые не будут отторгаться мозгом. А для чего их применить: стимулировать или считывать в мозг или в нервы, в спинной мозг, — это уже конкретный дизайн, который можно адаптировать под конкретные запросы.
Кстати, есть еще интересное применение для реабилитации, когда человеку с инсультом или травмой спинного мозга, например, имплантируют электроды, которые считывают, как он хочет двигать рукой, делают еще и экзоскелет, и стимуляторы мышц, и одновременно это все запускают. Человек хочет поднять руку — ему экзоскелет поднимает руку, и одновременно стимулируются те мышцы, которые поднимают руку. Это помогает реабилитировать нервы и вернуть самостоятельный контроль над движением рук.
— Что такое в данном случае интерфейс как конструкция, для чего он предназначен?
В. П.: Интерфейс — это по определению что-то между какими-то входными и выходными сигналами. В случае нейроинтерфейсов это, во-первых, сенсоры, которые записывают активность мозга, как правило, это электрическая активность. В случае инвазивных интерфейсов мы электродами подходим максимально близко к нервной ткани, к нейронам. В идеале мы записываем сигналы от многих отдельных нейронов, это самый качественный сигнал для управления. При этом необходимо решить проблемы биосовместимости нейроинтерфейсов и мозга, потому что мозг себя пытается защитить от посторонних предметов — электродов, при этом качество записи снижается.
Следующий алгоритм — это декодирующий алгоритм, который переводит то, что мы записали, в какую-то информацию. Скажем, человек хочет пошевелить пальцем. Каким пальцем? Указательным пальцем. А сейчас человек хочет, наоборот, ногой пошевелить или инициировать ходьбу. И все это нужно различать по активности мозга. То же самое в системах, которые, наоборот, отправляют информацию в мозг. При этом какой-то математический алгоритм решает, что за информацию мы хотим отправить в мозг. А дальше уже технические системы переводят это в последовательность импульсов и определяют, на какой электрод подать сигнал в какое время. И так можно кодировать много интересных вещей.
![]() У наших крыс имплантированный электрод подсоединен к торчащему из головы крысы разъему, к которому подсоединяется усилитель, оцифровщик и вся остальная электроника, расположенная снаружи
У наших крыс имплантированный электрод подсоединен к торчащему из головы крысы разъему, к которому подсоединяется усилитель, оцифровщик и вся остальная электроника, расположенная снаружи
— А как интерфейс используется? Как его к голове приладить?
В. П.: Есть неинвазивная и инвазивная технологии. Неинвазивная — это то, что не имплантируется. Например, электроэнцефалограмма (ЭЭГ), когда электрод — это шапочка, надеваемая на голову. Есть еще несколько вариантов технологий, но концептуально они все похожи. Основной минус всех этих подходов в том, что у них очень низкое разрешение. ЭЭГ детектирует суммарную синхронную активность параллельно расположенных нейронов — где-то 10‒50 тысяч. Это как бы суммарное электрическое поле, которое пробивает череп, и его можно считать. А инвазивная, то есть имплантируемая, электроника в идеале может считывать активности единичного нейрона. Использование той или иной технологии зависит от того, какую задачу мы хотим решить. Для каких-то задач нам хватит и первого подхода.
Когда мы говорим об имплантированной электронике, как это выглядит? У нас есть электрод, то есть, по сути, провод, состоящий из изоляции и проводящей части, которую располагают как можно ближе к нейрону. Когда нейрон работает, он продуцирует электрическое поле и, соответственно, электрический сигнал в проводе, который по проводу доходит до усилителя сигнала, а потом до оцифровки. То есть он из аналогового переводится в цифровой, который можно обрабатывать. Технически это может быть реализовано по-разному. Например, у наших крыс имплантированный электрод подсоединен к торчащему из головы разъему, к которому подсоединяется усилитель, оцифровщик и вся остальная электроника, расположенная снаружи. Хотя, по-хорошему, как минимум усилитель и оцифровщик надо тоже имплантировать. Ведь от нейрона идет очень слабый аналоговый сигнал, который можно записать только в камерах Фарадея, у нас все наглухо заизолировано. А дальше можно уже усиленный сигнал наружу выносить.
— А есть такие примеры?
В. П.: Есть. Но для такой имплантации нужна гибкая электроника. В идеальном случае ее бы вообще неплохо имплантировать прямо впритык к мозгу. Хотя бы где-то в районе черепа — под череп или под скальп. Засунуть под череп человеку мы это сможем, но узкое место — это микроэлектроника, которая в нашей стране узкое место для всего. Хотя если «Микрон» захочет поработать с нами, то мы, наверное, сможем это сделать, тем более что нам не нужен техпроцесс три нанометра. Нам и ста нанометров за глаза хватит.

Как в конце концов, я думаю, должен выглядеть хороший дизайн нашего устройства? Электроды имплантируются в мозг, а на черепе или под черепом расположена очень гибкая электроника с усилителем-стимулятором и аналогово-цифровым преобразователем и какая-то антенна, через которую цифровой сигнал можно будет передавать наружу. А вот имплантировать батарейки для питания, скорее всего, не стоит, по крайней мере около нервной ткани. Во-первых, это опасно, во-вторых, они в любом случае греются, как любой элемент питания, а нагрев даже на градус в районе мозга — это нехорошо. Но сейчас мы в основном сфокусированы именно на электродах, чтобы они были тонкие, мягонькие, безопасные и не подверженные отторжению. Электроника — это следующий этап, над которым мы потихоньку работаем.
— Как понять, какие сигналы, исходящие из мозга, что означают? Вы предварительно изучаете мозг на предмет всякого рода сигналов и сравниваете, что при этом человек делает?
М. Л.: Да. Мозг изучают уже давно, и, в принципе, более или менее известно, где там, в мозге, представлена рука, где представлена нога, где желание что-то сделать, где какая часть мозга, наоборот, прислушивается к сенсорной информации. Сенсорная информация тоже может быть разных модальностей: зрительная, слуховая, тактильная, проприоцептивная, то есть информация об изменениях положения тела, и так далее. То есть очень много вариантов. И мы знаем, где записывать, как записывать, чего ожидать.
Чтобы получить качественную информацию, нужны инвазивные интерфейсы, для внедрения которых сверлят дырку в черепе и через нее вставляют электрод непосредственно в мозг, и при этом можно записывать сигналы от отдельных нейронов. Недавно Илон Маск именно это показал в своих экспериментах. Они внедрились в мозг на один-два миллиметра, электродов было порядка сотни, насколько я представляю, и они записывали сигналы мозга.
Долгое время в нейрофизиологии ученые вставляли в мозг только один электрод, записывали один или два нейрона и прекрасно публиковали статьи. Затем пришла многоэлектродная запись, когда в мозг имплантируется много электродов. Это было сделано где-то в начале этого века, уже прошло двадцать пять лет. И пока остается примерно та же методика. Хотя есть и новые идеи, скажем, вместо электродов помещать в мозг нейропыль, которая записывает активность мозга и общается с передатчиком при помощи ультразвука.
![]() Для меня эти крысы в первую очередь служат для исследования отторжения интерфейсов. У меня много крыс сидит вплоть до года с вживленными интерфейсами, чтобы посмотреть, как при этом себя чувствует мозг
Для меня эти крысы в первую очередь служат для исследования отторжения интерфейсов. У меня много крыс сидит вплоть до года с вживленными интерфейсами, чтобы посмотреть, как при этом себя чувствует мозг
— Эти пылинки с некой памятью? Или они как передатчики работают?
М. Л.: Есть разные дизайны. У некоторых есть какой-то записывающий хвост, который записывает активность мозга. Но если в пылинку извне попадает ультразвук, она отражает сигналы и сообщает записанную информацию. И плюс она может стимулировать мозг. Мы через ультразвук ей говорим: стимулируй. Она начинает стимулировать. Это тоже, кстати, уже лет десять-пятнадцать назад было предложено, но пока еще не развилось, потому что во всех этих вещах много технических сложностей. Но с приходом бизнеса в это дело развитие ускорилось. Тот же Илон Маск со своим бизнес-подходом развивает это гораздо быстрее.
— Чем модели, например, «Моторики», отличаются от ваших и могут ли они ваши использовать и продвигать в своем бизнесе?
М. Л.: С «Моторикой» я работаю уже года четыре. Они делают протез руки для ампутанта, а этому ампутанту имплантируется периферический нерв-электрод, который стимулирует его. И у человека возникает ощущение фантомной конечности. Пользуясь таким протезом, мы можем стимулировать его, и ему кажется, что он чувствует этот протез. Поскольку у них есть очень хорошие протезы, мы можем поставить задачу управлять этими протезами, пользуясь инвазивными интерфейсами, которые имплантируются в мозг. И мы подумываем о том, чтобы начать это делать с «Моторикой».
Для этого нужно взять пациентов с эпилепсией, которым в мозг имплантируются электроды по медицинским показаниям, чтобы померить активность, а пока у них есть эти электроды, они могут помочь науке, просто попробовать управлять протезом активностью своего мозга. Но в будущем, я думаю, мы выйдем и на такие разработки, которыми сейчас Илон Маск занимается, когда устройство имплантировали парализованному человеку.
— В достаточно нашумевшем видео вашего проекта «Пифия» крыса безошибочно отвечала на самые сложные вопросы, нажимая на педальки «да» и «нет». В чем суть этого эксперимента, каких результатов вы ждете от проекта?
В. П.: «Пифия» — это, по сути, павловская собака (точнее, крыса), у которой вместо лампочки или звука колокольчика — стимуляция мозга. Стимулируем правое полушарие — у нее зачесался левый ус, и она должна нажать на левую кнопку. Стимулируем левое — зачесался правый ус, нажми на правую кнопку. Искусственный интеллект в этой схеме как раз слушает вопрос через микрофон, отвечает на него, решает, на какую педальку нажать, и подсказывает это крысе через стимуляцию мозга. Для меня эти крысы в первую очередь служат для исследования отторжения интерфейсов. У меня много крыс сидит вплоть до года с вживленными интерфейсами, чтобы посмотреть, как при этом себя чувствует мозг. Пока они сидят, с ними можно что-то делать. Кроме того, нам надо протестировать функционирование всей сборки — как стимулируется, как записывается, как работает беспроводная электроника.
Все это мы разрабатывали сами с нуля. Электроды мы производим полностью сами. Электронику собирали и программировали из отдельных микросхем, а не покупали готовые решения. Тесты можно было бы сделать без искусственного интеллекта. Но у нас есть наш индустриальный партнер — компания Neiry, с которой мы решили похулиганить, чтобы привлечь внимание к нашим технологиям и разработкам. С научной точки зрения в «Пифии» для меня, как для ученого, главное — электроды и стимулятор. В планах у нас есть и уже полноценные эксперименты по интеграции ИИ и мозга. Не буду скрывать, мне уже наприлетало от коллег-ученых, что они думают обо мне и об этих моих экспериментах. Научное сообщество прохладно относится к таким медийным штукам.

М. Л.: Этот проект революционный, поскольку мы начинаем с относительно простого эксперимента, где крысе имплантированы электроды, которые ее стимулируют, и она сама интерпретирует эту стимуляцию. И это все соединено с искусственным интеллектом, который может переводить какие-то очень сложные задачи в более простые команды. Это первый шаг, а дальше мы можем давать этой крысе разные задачи. Например, совершать навигацию в пространстве, в чем ей помогает искусственный интеллект. И таким образом наша крыса получает колоссальное преимущество по сравнению с сородичами, потому что обычная крыса бежит и не знает, куда ей бежать, а наша крыса, условно говоря, может прочитать надпись «Сосиски», и, соответственно, она будет в выигрыше. Можно добавлять ей решение социальных задач.
— А что значит социальных?
М. Л.: Это когда несколько крыс делают что-то вместе, они могут даже обмениваться информацией: скажем, одна прочитала вывеску «Сосиски» и передает эту информацию другим.
— В информации об этом проекте я читал, что крыса отвечает на вопросы, на которые даже человек не всегда может ответить. Что это означает?
М. Л.: Ей буквально задают вопросы. Скажем, сколько будет два в десятой степени? И дают разные варианты ответов, среди которых один из ответов правильный, как в игре, «Кто хочет стать миллионером».
Естественно, крыса сама не поймет вопроса. Искусственный интеллект все слушает, решает за крысу и подает ей на мозг команду, какой ответ выбрать. И вы тут же скажете: что же тут удивительного? крыса-то сама ничего не делает. Но на самом деле человек тоже, собственно, сам ничего не делает. За человека делает мозг, в котором огромное количество нейронных сетей, которые работают автоматически и фактически бессознательно. То есть если мы поверх этого мозга добавим некий такой экзомозг, то это принципиально ничего не меняет, поэтому, я думаю, не нужно ругать эту крысу за то, что она без дополнительного слоя в виде искусственного интеллекта не решает бином Ньютона, а с искусственным интеллектом — решает.
С крысами уже есть отработанные методики, как ей подсказать, что надо нажать либо правую педаль, либо левую. А может быть, выбрать одну из четырех педалей. Такие решения кажутся простыми, но с точки зрения крысиного мозга это непростое, искусственное поведение. С добавлением же искусственного интеллекта поведение становится еще сложнее, приближается к нашему, человеческому, и даже может его превзойти.
![]() Наша крыса получает колоссальное преимущество по сравнению с сородичами, потому что обычная крыса бежит и не знает, куда ей бежать, а наша крыса, условно говоря, может прочитать надпись «Сосиски», и, соответственно, она будет в выигрыше
Наша крыса получает колоссальное преимущество по сравнению с сородичами, потому что обычная крыса бежит и не знает, куда ей бежать, а наша крыса, условно говоря, может прочитать надпись «Сосиски», и, соответственно, она будет в выигрыше
— А как крыса воспринимает такое управление? При всей своей примитивности она ведь что-то чувствует. Как-то ощущается ее реакция на такое неожиданное воздействие?
М. Л.: Естественно, когда вдруг ей начинают стимулировать мозг, поначалу она будет удивлена: что это такое происходит? Но если она видит, что это полезный для нее стимул и она получит подкрепление, она начинает этим пользоваться. В этом смысле крысы очень хорошие животные для эксперимента. Потому что они как бы не говорят, что это за ерунда, это не имеет никакого смысла. Они сразу соображают: это помогает мне получить сосиску. И она тут же пользуется этой информацией. Обезьяны, например, не так сговорчивы, они могут три недели делать вид, что ничего не понимают. Хотя когда перестают упрямиться, тоже очень успешно этим пользуются.
— И под каждую задачу задействуется другой участок мозга?
М. Л.: Да, под каждую задачу совершенно определенный участок мозга. Сейчас это соматосенсорная кора, то есть кора, которая отвечает за тактильные ощущения. Или, еще конкретнее, Barrel Cortex, бочоночная кора, которая отвечает за усы крысы. А для крыс это очень важный сенсорный орган. Естественно, поначалу для нее это необычно, но когда она понимает, что это связано с каким-то советом совершить определенные действия, то она быстро обучается.
— Возможно использование результатов этого проекта в исследовании человеческого и искусственного интеллекта, в медицине?
М. Л.: Мы уже говорили, что нейроинтерфейсы уже сейчас активно применяется в медицине и самый успешный проект — это слуховой имплантат. Когда глухому человеку во внутреннее ухо вставляют электрод с несколькими стимулирующими точками, подают электрическую стимуляцию на слуховой нерв, и человек начинает что-то слышать.
Но возникает большая проблема: мы его стимулируем, а он говорит, что-то слышно, но я не могу понять, что это такое, чего вы от меня хотите. И здесь важно поместить между стимулирующими электродами и внешним звуковым миром какой-то алгоритм, который сможет, например, выделять важные слуховые сигналы: скажем, если это шумная комната, он сможет выделить речь одного человека. И с таким продвинутым нейроинтерфейсом, основанным на искусственном интеллекте, этот человек будет слышать гораздо лучше. А есть еще зрительные импланты, импланты для декодирования моторной информации, много всего.

— Зрительные импланты, которые позволяют восстанавливать зрение?
М. Л.: Пока это не настолько успешно, как в случае слухового импланта, но активно развивается. Идея состоит в том, что слепому имплантируют в зрительную кору электроды, подсоединяют их к видеокамере, между видеокамерой и электродами стоит искусственный интеллект, который вычленяет что-то из зрительной сцены, какие-то предметы и стимулирует мозг определенным образом, чтобы человек лучше разобрался в том, чего от него хотят, и по мере практики постепенно-постепенно он начнет уже видеть. Но это случится не сразу, потому что первая реакция будет «вижу какие-то вспышки, а что это, пока я ничего не понимаю». Но по мере накопления у этого человека зрительной практики это будет приобретать очертания.
Конечно, если у человека в глазу просто испорчена оптика, тогда лучше просто оптику заменить. Но если поражена сетчатка, то смотрят, что там поражено. Там, допустим, палочки, колбочки, чувствительные к свету, могут быть поражены, но дальнейшие слои клеток, которые эту информацию получают, могут присутствовать. И тогда используют ретинальный имплантат, когда в глаз вставляется такая сетка электродов, позволяющая стимулировать нейроны и их волокна, и это позволяет восстанавливать зрение. Но если в глазу вообще все повреждено, тогда нужно стимулировать зрительные структуры мозга. Более сложный случай — это так называемый blindsight, то есть слепое видение, когда поражена зрительная кора, человек ничего не видит, но у него остаются какие-то другие зрительные пути и он как бы бессознательно что-то видит. Как использовать это для восстановления полноценного зрения — это вопрос. Но, я думаю, и в этом случае можно будет добиться успеха.
![]() Идея состоит в том, что слепому имплантируют в зрительную кору электроды, подсоединяют их к видеокамере, между видеокамерой и электродами стоит искусственный интеллект, который вычленяет что-то из зрительной сцены, какие-то предметы и стимулирует мозг определенным образом
Идея состоит в том, что слепому имплантируют в зрительную кору электроды, подсоединяют их к видеокамере, между видеокамерой и электродами стоит искусственный интеллект, который вычленяет что-то из зрительной сцены, какие-то предметы и стимулирует мозг определенным образом
— А что дают ваши исследования с точки зрения медицины мозга?
М. Л.: Здесь очень радужные ожидания. Собственно, для любой проблемы с мозгом уже придумали какой-то нейроинтерфейс. Даже термин придумали — электроцевтика, в противоположность фармацевтике: вы не пилюли едите, а используете системы для стимуляции мозга, чтобы восстанавливать какие-то его функции. Например, в последнее время очень много уделяется внимания проблеме депрессии. Как лечить депрессию? Можно антидепрессанты принимать, а можно стимулировать определенные зоны мозга, где будут подавляться патологические формы активности, которые приводят к депрессии.
— То есть этот человек будет иметь некий тумблер — включил его и стимулирует.
М. Л.: Да. И в этом есть некая этическая проблема: все захотят иметь такие тумблеры. Что-то у меня настроение ухудшилось, пора простимулировать. Однако это неминуемо будет. А пока мы еще только на словах знаем, что можно стимулировать определенную зону против депрессии, это еще мало изучено — как стимулировать, что стимулировать… Но когда в этом продвинутся, желающих действительно будет много.
И все же следует помнить, что подобное гедонистическое использование нейроинтерфейсов — это лишь одно из множества приложений. А с применением искусственного интеллекта приложений станет значительно больше и они выйдут на качественно новую ступень развития.
Темы: Наука и технологии