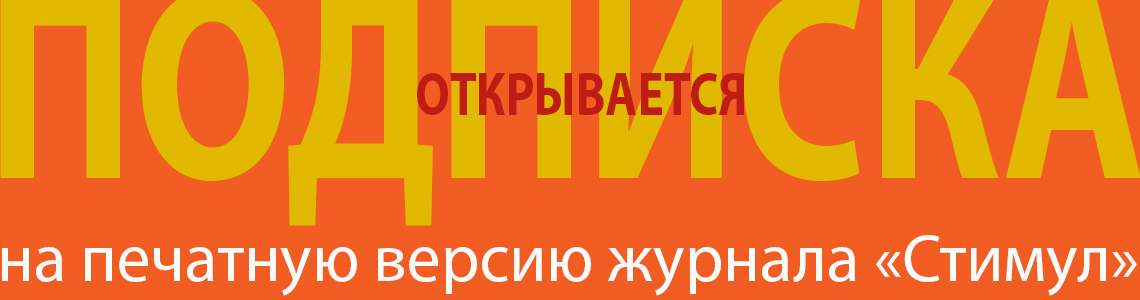Лекарство для редкого пациента

Мутации в живых организмах происходят постоянно, подтверждая продолжение эволюции. Какие-то оказываются полезными, увеличивая адаптивность организма, другие, наоборот, лишают его жизненно необходимых функций. Выделенные в особую группу редкие генетические (орфанные) заболевания возникают из-за различных генетических поломок, которые передаются по наследству. Всего таких заболеваний порядка семи-восьми тысяч, и это только те, которые изучены и описаны. На самом деле их больше: специалисты говорят примерно о десяти тысячах различных орфанных заболеваний.
Часть из них поддается медикаментозному лечению и контролю, но простая логика подсказывает, что наиболее верный путь — исправлять саму поломку гена, то есть разрабатывать генетические лекарства для лечения этих болезней. Науке такие задачи уже по силам. Однако процесс этот весьма дорогостоящий и предельно сложный с организационной точки зрения. Главный сдерживающий фактор в разработке таких препаратов — очень маленькие группы пациентов, что затрудняет клинические испытания таких разработок, ведь для этого нужно формировать, например, контрольные группы, которым во время испытания препарата лекарство не дается. А если таких пациентов несколько человек в стране или в мире? И к тому же их заболевания могут отличаться вариативностью из-за сочетания с другими персональными генетическими особенностями. По той же причине генетические лекарства очень дорогие, так как речи о массовом производстве, которое могло бы окупить вложения, не идет в принципе.
Тем не менее процесс создания генетических препаратов для лечения орфанных заболеваний идет и в России, и в мире. В нашей стране в стадии разработки находится около десятка генетических препаратов, два из них разрабатывают ученые Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова.
Новый класс лекарств
Открытие в 1953 году двойной спирали ДНК и расшифровка генома человека создали новые возможности для медицины — лечить болезни теперь можно введением генетического материала. В составе любого генотерапевтического препарата есть элемент ДНК, определяющий его лечебный эффект. Тот факт, что клетки животных и человека способны поглощать ДНК внешнего происхождения, ученые установили еще в 1960-е годы. Механизм переноски генетического материала к нужному месту был разработан в 1984 году, это была система ретровирусного вектора. При этом известно, что инородный генетический материал в большинстве случаев не встраивается в геном хозяина, но способен его дополнять, генерируя необходимый для функционирования организма белок, который организм хозяина не может вырабатывать самостоятельно из-за генетической поломки.
![]() Редкие генетические (орфанные) заболевания возникают из-за различных генетических поломок, которые передаются по наследству. Всего их порядка семи-восьми тысяч. И это только те, которые изучены и описаны, на самом деле их больше
Редкие генетические (орфанные) заболевания возникают из-за различных генетических поломок, которые передаются по наследству. Всего их порядка семи-восьми тысяч. И это только те, которые изучены и описаны, на самом деле их больше
Первые клинические испытания препарата генной терапии были проведены в США в 1990 году, в результате чего четырехлетняя девочка излечилась от тяжелой формы иммунодефицита. В России первый препарат генотерапии был зарегистрировал в 2011 году. Это был «Неоваскулген», предназначенный для лечения заболеваний периферических артерий. Созданный в 2019 году препарат Zolgensma, предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии, по цене побил мировые рекорды: один укол стоит более двух миллионов долларов.
В России сейчас разрабатывается около десятка генотерапевтических препаратов. «Официальной статистики нет. На мой взгляд, таких разработок около десяти или чуть больше. Это касается научных организаций, без учета ситуации по фармкомпаниям», — рассказала «Стимулу» Анна Костарева, директор Института молекулярной биологии и генетики НМИЦ им. В. А. Алмазова. Но на первичном этапе подобные разработки — это наука, до практики доходит очень небольшая часть, отметила она.
«Каждый научный центр старается работать с той патологией, которую он хорошо знает клинически и патогенетически, — говорит Анна Костарева. — Для создания генотерапевтического препарата у ученых должен быть опыт в создании препаратов, опыт работы с пораженной тканью, органом или системой органов — дыхательной, нервной, эндокринной».

Пионерские разработки
Разработка первых генотерапевтических препаратов началась в НМИЦ им. В. А. Алмазова после того, как ученые центра занялись темой борьбы с орфанными заболеваниями. «Выбор мишени при разработке генотерапевтических препаратов всегда и везде строится по одним и тем же принципам: это должна быть патология, для которой нет никаких других удачных терапевтических решений (более простых, дешевых и безопасных), выбранная патология должна иметь какую-то значимую частоту, — говорит Анна Костарева. — Безусловно, каждый пациент уникален, но если таких пациентов трое во всем мире, довольно сложно будет находить группы для тестирования, следовательно, это должна быть как можно более частая патология. И при этом тяжелая, требующая серьезного лечения, потому что, если пациент может со своим генетическим заболеванием нормально функционально жить, такая патология вряд ли будет правильной мишенью для генетической терапии. И последний момент: выбранное заболевание должно иметь пересечения с компетенциями нашего центра — это прежде всего сердечно-сосудистая патология».
«Мы в последнее время сконцентрированы на поисках подходов к лечению разных митохондриальных заболеваний, — говорит Анна Костарева. — Они имеют довольно ранний дебют (относятся к детской группе) и очень плохой прогноз: довольно часто идет прогрессирование заболевания со значимой потерей функций, хотя в отдельных случаях удается достигнуть стабилизации. Эти больные быстро теряют свою функциональность — это дети, которые не ходят, с задержкой умственного развития, с судорожным синдромом. Это могут быть взрослые с тяжелой кардиологической и неврологической патологией, они даже не кандидаты на трансплантацию сердца».
В группе митохондриальных патологий вариантов заболеваний много, но ни по одному из них не формируются большие когорты пациентов. В Центре Алмазова наблюдают от 15 до 30 пациентов, страдающих разными митохондриальными заболеваниями. И это считается очень значимыми когортами. Для каждого из заболеваний группы генетическое лекарство нужно свое.
![]() «Мы в последнее время сконцентрированы на поисках подходов к лечению разных митохондриальных заболеваний. Они имеют довольно ранний дебют (относятся к детской группе) и очень плохой прогноз — довольно часто идет прогрессирование заболевания со значимой потерей функций»
«Мы в последнее время сконцентрированы на поисках подходов к лечению разных митохондриальных заболеваний. Они имеют довольно ранний дебют (относятся к детской группе) и очень плохой прогноз — довольно часто идет прогрессирование заболевания со значимой потерей функций»
В настоящее время в нашей стране нет такого центра компетенций, который занимался бы ведением пациентов с митохондриальными заболеваниями. Они встречаются у разных врачей в разных центрах и регионах. «Нам бы хотелось когда-нибудь создать у себя центр по лечению митохондриальных заболеваний, но до этого еще довольно далеко», — поделилась Анна Костарева.
Сейчас в разработке у ученых НМИЦ им. В. А. Алмазова два генетических препарата. Один направлен против синдрома Барта (впервые заболевание описал голландский педиатр Питер Барт в 1983 году, обнаружив схожие симптомы у представителей одной семьи). Болезнью страдают в основном мальчики, она проявляется в виде сочетания сердечной недостаточности с поражением скелетно-мышечной и иммунной систем. «Этот препарат мы сейчас тестируем на животных, — рассказала Анна Костарева. — Второй препарат направлен против дыхательной недостаточности, связанной с тяжелой детской митохондриальной патологией с поражением центральной нервной системы».
По ее словам, заниматься разработкой таких препаратов довольно трудоемко и не очень благодарно в плане финансовой эффективности. «Можно четыре, пять, шесть лет разрабатывать препарат, у которого целевая группа пациентов всего несколько десятков человек», — говорит наша собеседница. Но когда генетический препарат будет создан, им будут обеспечены пациенты со всего мира. Сложность в разработке и узость целевых групп привели к выработке негласных правил: разработка таких препаратов обычно не дублируется разными компаниями и научными группами, хотя есть и исключения. Препараты для самых распространенных орфанных заболеваний, например для спинально-мышечной атрофии Дюшенна, разрабатываются и производятся несколькими компаниями.
При разработке генетического препарата есть несколько обязательных стадий. Сначала ученые ищут мутации, потом начинается работа над созданием нескольких параллельных препаратов на вирусных носителях, далее создаются животные модели, на которых тестируется разработки. Работа с животными идет в течение нескольких лет: нужно доказать безопасность и эффективность разработки. И только потом наступает время получения разрешения на применение. По мнению Анны Костаревой, первый генотерапевтический препарат, разработанный в Центре Алмазова, может быть готов через несколько лет.

Как найти поломку
Если открытие центра по митохондриальным заболеваниям — это вопрос отдаленного будущего, то центр компетенций по наследственным редким и малоизученным заболеваниям существует в НМИЦ им. В. А. Алмазова с 2021 года. «Официально он открылся 25 марта 2021 года. До этого времени у нас уже был накоплен опыт ведения деток с редкой малоизученной патологией», — рассказала «Стимулу» Елена Васичкина, руководитель подразделения. Работать по этой сложнейшей тематике специалистам Центра Алмазова позволили широкий и стремительно увеличивающийся набор компетенций, серьезная научная составляющая, мощная материально-техническая база — здесь есть свой Институт молекулярной биологии и генетики, МРТ, различные визуализирующие возможности, а также широко применяемый подход к формированию мультидисциплинарных команд, когда приходится сталкиваться со сложными случаями. «Очень важно, чтобы рядом были специалисты разных направлений, так называемая мультидисциплинарная команда», — говорит Елена Васичкина.
На данный момент, по ее словам, науке известно порядка семи-восьми тысяч орфанных заболеваний, и ежегодно описывается 250‒280 новых. Но, полагает Васичкина, можно говорить о несколько большем числе — около десяти тысяч, и это число неуклонно растет, пополняясь за счет появления новых мутаций. «Вторая причина роста выявления новых орфанных заболеваний связана с улучшением качества диагностики. Научные центры не только находят мутацию, но и начинают ее изучать, когда уже есть несколько схожих случаев. Так появляются описания новых заболеваний», — говорит Елена Васичкина, отмечая важную роль профессиональной коммуникации между докторами разных стран.
![]() Сложность в разработке и узость целевых групп привели к выработке негласных правил: обычно разработка таких препаратов не дублируется разными компаниями и научными группами, хотя есть исключения
Сложность в разработке и узость целевых групп привели к выработке негласных правил: обычно разработка таких препаратов не дублируется разными компаниями и научными группами, хотя есть исключения
Среди признаков, которые позволяют врачам заподозрить орфанное заболевание, — нетипичность патологии и множественные патологии различных систем организма. Затем начинается этап лабораторных исследований, первый из которых — оценка капель крови на лизосомные болезни накопления. Дальше проводятся генетические исследования. Но и полногеномное секвенирование не предел возможного. Если повторять его с шагом в два года, можно выявить новые мутации, влияющие на клиническую картину. Причем это могут быть как новые мутации внутри организма, так и уже имевшиеся, но не описанные и не изученные прежде и ставшие предметом научного изучения другими специалистами на других научных площадках. «Рекомендуется пересматривать сырые файлы — так на профессиональном жаргоне генетиков называется геном человека, который уже посмотрели, раз в два года, потому что данные постоянно обновляются. Сегодня может казаться, что ничего нет, через два года мы обнаружим определенную мутацию, которую опишут», — пояснила Елена Васичкина.
Ученые Центра Алмазова тоже вносят свой вклад в расширение знаний об орфанных заболеваниях. «Мы нашли новую мутацию, которая раньше не была описана. Она связана с синдромом Ундины, который проявляется у малышей в форме остановки дыхания во сне. Это был новый патогенный вариант мутации, он отличается от уже известных тем, что клиническая картина заболевания при этой мутации немного полегче. Мы эту информацию опубликовали в научных изданиях», — рассказала Елена Васичкина.
В Центре по наследственным редким и малоизученным заболеваниям НМИЦ им. В. А. Алмазова возлагают серьезные надежды на появление генетических препаратов и на то, что по мере накопления работающих алгоритмов помощи больным редкими заболеваниями, их лечение войдет в рутинную практику. «Я верю, что когда-нибудь так и будет», — сказала Елена Васичкина.
Темы: Наука и технологии