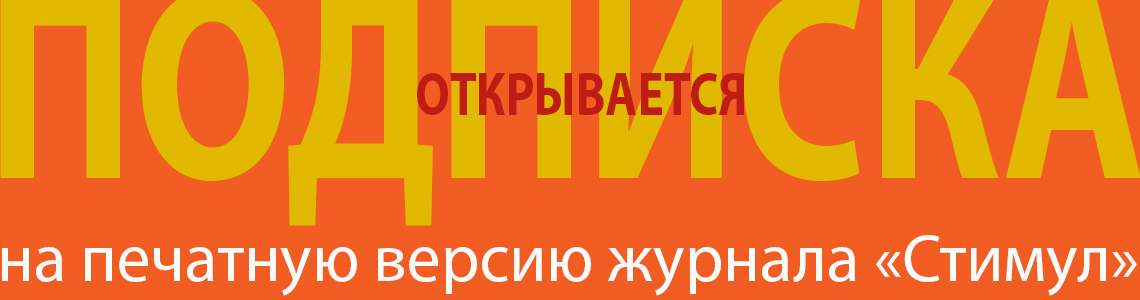«В науку отбираются люди, которые хорошо борются с унынием»

Так получилось, что с директором Центра геномных технологий и биоинформатики, руководителем лаборатории геномной инженерии МФТИ, кандидатом биологических наук Павлом Волчковым мы встретились, естественно в интернете, вскоре после совещания, посвященного проблемам развития генетики, которое провел президент Владимир Путин. И беседу мы начали с вопроса о том, что лично для него, генетика Павла Волчкова, означает внимание государства.

— Это означает что генетика признана государством как направление прорыва, то есть как одно из направлений, за счет которых Россия должна перейти от сырьевой экономики к диверсифицированной с уклоном в высокие технологии. Цели поставлены. Идеи сформулированы. Программа запущена. Теперь осталось реализовать… к сожалению, обычно на этой стадии возникают проблемы. Для меня же особенно важен акцент, сделанный именно на реализацию научных знаний, на привлечение бизнеса к генетическим разработкам.
Хотя, на мой взгляд, государственные деньги тут могут даже немного навредить, так как теперь все бросятся перекрашиваться в генетики: ведь замаячили большие деньги. Я бы направил усилия государства в первую очередь на создание в России лучшего инвестклимата для высокотехнологических стартапов и их последующего вывода на рынок. Именно такие успешные бизнесы должны потом запитать научный сектор, замкнув финансовый цикл.
— А если бы у вас было сто миллионов, куда бы вы их вложили?
— В создание новых технологий, которые могли бы быть применены в терапии. Ведь мы живем в век, когда высокотехнологичные подходы на основе искусственного интеллекта и машинного обучения применяются все шире во всех областях науки. И в области генетики и медицины особенно.
Computer Science генетика — это то, что сейчас «горячо» и до некоторой степени понятно с точки зрения бизнеса: понятны инвестиции, понятен вход-выход. И именно этим мы сейчас занимаемся.
Другое направление, куда мы инвестируем и деньги, и время, — создание терапии генетических заболеваний. И я непосредственно вовлечен в два проекта, которые делаются вместе с компаниями. Многие фармкомпании делают деньги на малой фармацевтической химии и вкладывают ее в продукты следующего поколения. И мне нравится жить в то время, когда я могу помочь людям, в том числе с орфанными заболеваниями
— В разговоре с биологом было бы странно обойти тему COVID-19. Сегодня он правит миром, и даже мы с вами вынуждены общаться по видеосвязи. И тем не менее, на ваш взгляд, дал ли коронавирус что-то науке?
— Фундаментальной науке он, скорее всего, ничего не дал. Фундаментальная наука развивается хорошо, когда она используется в прикладной науке и прикладная наука приносит коммерческий результат — продукты. Тогда большая фарма понимает, когда фундаментальной науке нужно дать денег, чтобы ученый получал результаты для следующей — прикладной — стадии.
![]() Computer Science генетика — это то, что сейчас «горячо» и до некоторой степени понятно с точки зрения бизнеса: понятны инвестиции, понятен вход-выход. И мы именно этим сейчас занимаемся
Computer Science генетика — это то, что сейчас «горячо» и до некоторой степени понятно с точки зрения бизнеса: понятны инвестиции, понятен вход-выход. И мы именно этим сейчас занимаемся
В случае же с COVID очевидно, что у этой эпидемии есть горизонт. В июле или в ноябре, скорее всего, все закончится. И создание препарата для лечения с точки зрения фармбизнеса бессмысленно. Вы не успеете создать то, что можно продать. Значит, инвестиции становятся бессмысленными.
Однако на что стоит обратить внимание, и это глобальный тренд: весь мир начал производить тест-системы. И это революция в медицине. Это было трудно предположить лет двадцать назад. Мы все время страдаем вирусными и бактериальными заболеваниями, но даже не думали раньше детектировать у себя, что это конкретно за вирус. Мы болеем гриппом и ничего с этим не делаем. Сейчас мы можем сделать тест. Понять конкретику. Для большой фармы это лампочка: можно делать препараты, которые будут продаваться под конкретный вирус.
— То есть фактически диагноз будет ставить не врач? Похоже, из медицинской системы будущего он выпадает.
— Мы к этому идем — к компьютеризированному будущему, когда на основе совокупности данных, на основе машинного обучения машинные алгоритмы будут выдавать нам лучший ответ. На первых этапах — помогая врачу. Лет через двадцать — уже выдавая инструкцию напрямую.
— Для того чтобы машина выдавала инструкцию, она должна много знать о пациенте. Сейчас модно сдавать генетические тесты. И про диеты расскажет, и про происхождение, и про здоровье будущих детей. Мы в таких исследованиях реальную картину получаем или сделали тест, а через год картина будет неактуальной?
— Если это разовое обращение, то это действие напоминает покупку абонемента в спортзал, когда покупают и не ходят. Да, многие не жалеют денег на этот генетический тест, купят один продукт, получат результат и забывают о нем. Это так не работает. Но правдивую историю сложнее продать, ведь большинство людей не готовы к длительным системным решениям. Фактически же компания вас вовлекает в долговременные отношения, в длительную систему обследования со сбором ваших медицинских показаний. И хорошо, если таких, как вы, миллионы. Чем больше будет данных, тем точнее будут результаты исследований конкретных людей.
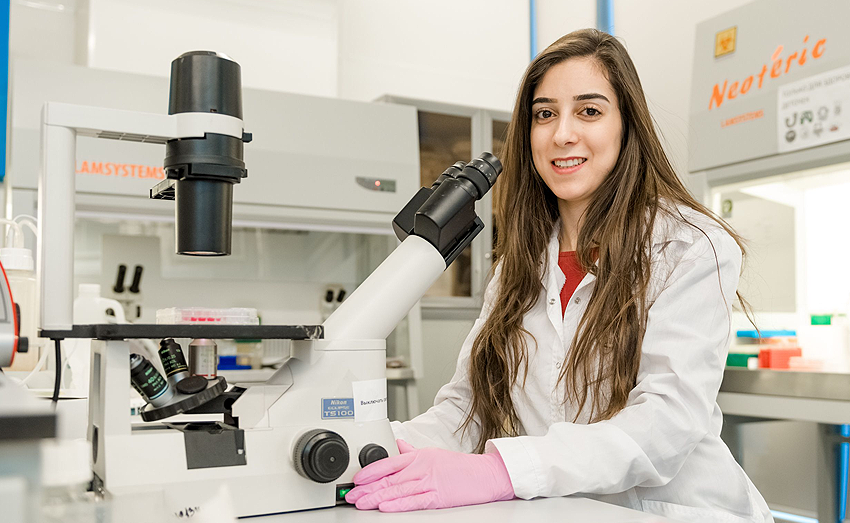
— Генетика нам многое рассказала о генетических заболеваниях, тех, что возникают в результате мутаций и могут передаваться из поколения в поколение. Но лечение таких — орфанных — заболеваний, о которых вы уже упомянули, принято считать экономически невыгодным…
— Так было раньше. Многие люди поклоняются Стиву Джобсу, но мне больше нравятся идеи более прагматичного Билла Гейтса: меньше красивых слов и больше действий. Он сказал: да, таких больных мало, но их надо как-то лечить. Создание терапии стоит двести миллионов, и если таких больных, условно, двести человек, то терапия будет стоить миллион на каждого, так давайте придумаем механизм, который сделает столь дорогостоящую работу осмысленной. И он предложил в области генетических орфанных заболеваний систему ваучеров, которая реализовалась в США и дала большой прогресс.
— Как она работает?
— Если вы создаете терапию генетического заболевания, то FDA (Food and Drug Administration, организация по контролю за качеством продуктов и медикаментов в США), во-первых, помогает вам ускоренно пройти путь регистрации. И во-вторых, если вы вывели продукт на рынок, вам выдают ваучер, который дает вашей компании возможность быстрее вывести на рынок любой следующий препарат. Причем этот ваучер вы можете продать или передать другой компании. И сейчас уже есть небольшой рынок ваучеров. Их не так много, и большие фармкомпании за ними охотятся. Потому что этот ваучер помогает фармкомпаниям экономить на внедрении лекарства от года до полутора. В некоторых случаях и два года.
![]() Фактически же компания вас вовлекает в долговременные отношения, в длительную систему обследования со сбором ваших медицинских показаний. И хорошо, если таких, как вы, миллионы. Чем больше будет данных, тем точнее будут результаты исследований конкретных людей
Фактически же компания вас вовлекает в долговременные отношения, в длительную систему обследования со сбором ваших медицинских показаний. И хорошо, если таких, как вы, миллионы. Чем больше будет данных, тем точнее будут результаты исследований конкретных людей
И тогда большая фарма начинает охотиться за этими ваучерами и за компаниями, которые вот-вот выйдут на рынок. Они начинают вкладывать деньги в эти венчурные компании, чтобы гарантировать себе же продажу их ваучера. И ваучеры продаются хорошо. Была зафиксирована продажа ваучера за 385 миллионов долларов. Минимум был на старте — 75 миллионов. Этот инструмент тем самым запитал невыгодные на первый взгляд разработки, потому что полученные от продажи ваучера деньги компенсируют расходы на создание и вывод на рынок лекарств от орфанных заболеваний.
И таких историй у них масса. И это то, что мы должны взять на вооружение. Прежде всего финансовые решения.
Но в этой истории с лечением орфанных заболеваний есть часть вторая — отложенная прибыль. И ее дают такие страны, как Россия, которые исповедуют социально-гуманитарную позицию в области здравоохранения. У нас она декларируется Конституцией.
Курс лечения такими лекарствами стоит порядка миллиона долларов. Пациентов немного, поскольку это редкие заболевания. Но они есть и в России. Родители таких детей пишут письма в Минздрав, и Минздрав вынужден купить эту терапию чтобы лечить своих пациентов.
— То есть американские компании наживаются на более бедных странах, которые не в состоянии разрабатывать такие лекарства? Очень многие и в самих Штатах, и в Европе критикуют американские фармкомпании за это и за получение необоснованной сверхприбыли. А американскую медицину — за низкую эффективность. Особенно демократы. Например, еще Обама приложил много усилий, чтобы реформировать эту систему, приблизив ее к европейским стандартам, а медицинские, страховые и фармкомпании всячески ему в этом препятствовали. Особенно острой эта критика стала сейчас, в условиях пандемии.
— «Наживаются» — грубое слово, но де-факто так оно и есть. Развитие и разработка технологий в США финансируется за счет того, что есть социально ориентированные системы здравоохранения, которые обязаны покупать дорогой препарат от редкого заболевания, если он существует. Безусловно, это благо для конечного пользователя, но в масштабах страны на это требуется большой бюджет. Если приблизительно десять процентов населения нуждается в таких препаратах, это огромные расходы, которые будут расти, потому что с каждым годом препаратов для орфанных заболеваний будет все больше.

— Вы поработали в США, теперь работаете в России. Сравнивая организацию науки там и там, какие вы для себя делаете выводы?
— В российской науке есть такая проблема — научные школы. Суть ее в том, что молодые ученые продолжают работать над тем, над чем работали их руководители. А руководители работают над тем, над чем работали их руководители.
Есть замечательная серия статей о российских работах в области генетики, которые проясняют в этом смысле очень многое: в 1990-е, когда мы еще не отсеквенировали геном человека, мы работали с пятью процентами всех генов, как мы потом узнали. Чаще всех упоминался ген Р53. Мы думали: окей, мы отсеквенируем геном, будем знать больше генов и будем работать с большим числом генов. Отсеквенировали. А работают все с теми пятью процентами.
Все говорят: один геном — это ни о чем. Нужно отсеквенировать популяционный геном. Геном большого количества людей. Прошли 2000-е, начались 2010-е. Мы сейчас секвенируем всех подряд. И по данным 2018–2019 годов, опять большинство наших ученых работают с тем же Р53 и пятью процентами генов.
— Ученые такие консерваторы…
— Человек в принципе консервативен. Зная это, немцы, как прагматичные люди, ограничивают срок существования таких научных школ. Они их прямо рубят: если тебе шестьдесят пять лет — пора на пенсию. В Америке ротируют людей. Если ты учился в Гарварде, то ты не можешь пройти там аспирантуру. Ты должен пойти в условный Стэнфорд. И перейти в новое место на постдока. И в следующее —получать «профессора». Проблемы это полностью не решает, но в России мы не используем не первого, ни второго подхода. У нас обычно все растет внутри одного института. И люди как занимались семьдесят лет назад одной проблематикой, так и продолжают. Выходит, что у нас и актуальность любых тем такая. И так же формулируется.
Обмен опытом дает колоссальные возможности перенять методы, знания и навыки из нескольких научных школ, что позволяет ставить и решать новые научные задачи. Это понимают в США, Китае, Японии, Европе. И это более выигрышный сценарий.
— Когда вы поступали в университет в конце 1990-х, такой профессии — генный инженер — не было. И вы даже поступали в медицинский.
— Благо, что не поступил. Когда я учился в школе, я мечтал стать врачом. Такая благородная профессия, немного героическая. Ты всего себя отдаешь, лечишь людей, спасаешь жизнь, продлеваешь. Существование с комплексом бога. Их тогда романтизировали.
— В итоге поступили на биофак МГУ. Почему выбрали направление вирусологии? Хотелось спасать людей, помогать им на другом уровне?
— Я уже хотел не спасать, а разрабатывать. Изучая биологию и околомедицинскую биологию, я понимал, что медицина — это уже далеко не самостоятельная наука. Она опирается на технологические решения, пришедшие из генетики, молекулярной биологии, иммунологии и так далее.
![]() Курс лечения такими лекарствами стоит порядка миллиона долларов. Пациентов немного, поскольку это редкие заболевания. Но они есть и в России
Курс лечения такими лекарствами стоит порядка миллиона долларов. Пациентов немного, поскольку это редкие заболевания. Но они есть и в России
И в МГУ, когда мы в 1998–2000 годах распределялись по кафедрам, лучшими и современными считались две: молекулярной биологии и вирусологии. Мне, если честно, на молекулярке не очень понравились профессора, но очень понравились на кафедре вирусологии. Тогда она была сформирована очень прогрессивно, авангардно. Это чувствовалось. Идя на кафедру вирусологии, можно было погрузиться в иммунологию, онкологию, там был весь букет направлений, которые меня интересовали и, как ни странно, отсутствовали на остальном биофаке.
И не с эпидемиологической, жизнеописательной точки зрения, как мы со Средневековья описывали бубонную чуму. А именно на уровне молекулярных механизмов, иммунной системы. Если хотелось попасть в прикладное медицинское направление, то кафедра вирусологии фактически собрала все, что нужно.
— МГУ во всей красе, не растерявший еще старую гвардию и хорошо работающую систему образования.
— Да, именно, на старых дрожжах. Я как раз их и застал. В виде корифеев, академиков, со связями по всему миру. Как ни странно, но и при Советском Союзе, со всей его закрытостью, большие академики обладали обширными связами по всему миру, коллаборировали со всем миром. И меня это подкупало, как любого юношу, который стремился узнать и науку, и мир.
— Когда вы шли учиться, профессии «генный инженер» не существовало. Вообще, с 1990-х в биологии, в генетике было много больших открытий. И то, что в 2000-е называли будущим, реализуется уже сейчас. Наверное, многим ученым пришлось разбираться в методах, которых не существовало на момент их обучения? И успевает ли образование за прогрессом?
— Биологическое образование за это время не изменилось. Если мы возьмем учебник биологии, он тот самый, по которому учился я и учился мой брат, который на десять лет старше. Это проблема. Да, там излагаются в основном данные, которые не изменились, но там отсутствует блок знаний, которые появились за двадцать-тридцать лет.
Это все равно, как если бы мы в литературе остановились на уровне Золотого века — его изучаем, а к Серебряному не подступаемся
![]() В Америке ротируют людей. Если ты учился в Гарварде, то ты не можешь пройти там аспирантуру. Ты должен пойти в условный Стэнфорд. И перейти в новое место на постдока. И в следующее — получать «профессора»
В Америке ротируют людей. Если ты учился в Гарварде, то ты не можешь пройти там аспирантуру. Ты должен пойти в условный Стэнфорд. И перейти в новое место на постдока. И в следующее — получать «профессора»
И девяносто процентов вузов не дают образования. Это времяпрепровождение. Люди там дозревают, но знаний не приобретают. Но это не только у нас. Это почти везде.
И мы сейчас направляем свои усилия в том числе на модернизацию, апгрейд этих знаний, хотелось бы, чтобы в школьном среднем образовании уже сейчас закладывались те самые динамические направления, которые нам понадобятся в будущем.
Я сам сейчас занимаюсь с кружком геномной инженерии на Физтехе для школьников, при моей лаборатории. Мы используем и федеральную инфраструктуру, например систему кванториумов, которые худо-бедно работают, чтобы донести знания до регионов.
— Что должен знать человек, претендуя на профессию геномного инженера?
— Современная геномная инженерия представляет сплав направлений. В основе, конечно, молекулярная биология, генетика. Но там еще много математики, статистики, Computer Science. Почему я работаю на Физтехе? Именно потому, что современная геномная инженерия очень компьютеризирована. Мы работаем с огромным количеством больших данных, которые могут обрабатывать только большие машины. Нужно уметь строить алгоритмы, пайплайны по анализу чего угодно, хорошо бы уметь программировать.
— Почему вы говорите о генной инженерии, а в названии вашей лаборатории написано «геномная инженерия»? В чем разница?
— Генная инженерия (genetic engineering) — набор технологий, используемых для изменения генетического состава клеток, включая передачу генов внутри и за пределами видов для получения улучшенных или новых организмов. Подразумевается, что редактируется поврежденный ген.
Геномная инженерия (genome engineering) — вид генной инженерии, который подразумевает замену, удаление, редактирование ДНК в геноме живого организма, то есть изменения вносятся в геном, в несколько генов.
— Какая цель вас вела за границу?
— Несколько целей. Удовлетворить научные и карьерные амбиции, приобрести профессиональные навыки. И посмотреть, как там, за рубежом.
Выпустившись с кафедры вирусологии, я уехал в Штаты, в Университет Чикаго. Потому что у меня было ощущением нереализованности.
— Америка оправдала ожидания? Не разочаровала?
— Я родился в СССР во Фрунзе, переехал в Россию, потом в Москву. В Москве, за вычетом американского периода, я прожил дольше всего. Но американский период был для меня самым богатым событиями. Я понял в тот момент, что если наука — то в Америке. Там была жизнь. Я уехал к Саше Червонскому, одному из очень сильных иммунологов, который уехал в США во время перестройки к одному из столбов мировой иммунологии Чарльзу Джейнуэю и опубликовал более 300 научных работ. Он был одним из первых современных исследователей врожденного иммунитета как первой линии защиты от инфекций, предложил общую теорию врожденного иммунного распознавания и принципы врожденного контроля адаптивного иммунитета).
Тогда, в начале 1990-х и начали секвенировать, клонировать гены. И многие вещи стали в иммунологии понятны, а многие мы до сих пор открываем. До сих пор есть такие черные пятна, что мы не понимаем, как что-то работает, и можем только догадываться. Это, с одной стороны притягивает, а с другой — жутко меня раздражает, потому что мы часто берем за основу исследования допуски и гипотезы.
— Где самая интересная для вас черная зона? Терра инкогнита?
— С момента переезда из Штатов, назад, в Россию (это случилось в 2015 году) я от черных дыр ухожу. Они интересны, но не имеют сиюминутного практического значения. Уже накоплен огромный объем фундаментальных знаний, которые на практике не используются. А меня всегда удручало, что мы продолжаем смотреть на наши гениальные знания, но не можем их применять для лечения человека. Потому что пропасть между фундаментальными знаниями и реализованной медицинской технологией катастрофическая. Они есть, и их нужно конвертировать в реальный продукт, который, не буду лукавить, мы можем капитализировать.
— Я так поняла, что Америка сделала вас прагматиком и практиком. Ученым с бизнес-мышлением.
— Годы в МГУ — чудесные годы, но десять лет в Америке меня трансформировали. Америка и созданный там научный уклад меняют представление о жизни, представление о достижении результатов. Знаете, чего здесь часто не хватает людям? Они самостоятельно выстраивают себе барьеры. Они наперед могут рассказать тебе, почему «не получится».
Любая идея, не будучи приземленной в бизнес-почву, обречена на провал. Если вы что-то хотите делать, вы должны это делать в рамках бизнес-стратегии. Иначе в этом нет смысла. Именно поэтому большинство проектов моей лаборатории, мы делаем вместе с компаниями. Это все не какие-то абстрактные научные изыскания, чтобы опубликовать статью. Это не самоцель.

— Америка до сих пор остается местом, которое рекрутирует, покупает умы со всего мира?
— Еще во времена космической гонки американцы быстро поняли, что ученых у них недостаточно и им сложно экспоненциально развивать свою науку и соперничать с формами научной деятельности, эксплуатируемыми в Союзе. И они создали научную машину, сделав США самой большой страной с научными гастарбайтерами. И это привело к взлету американской науки в период с 1960-х по 1990-е.
— Но они обесценили на внутреннем рынке специальность «ученый»
— И они же первые от этого страдают. Потому что многие гастарбайтеры были из Китая. Оттуда очень охотно отправляли своих граждан в Америку. И многие там осели.
Если вы зайдете на сайты университетов Чикаго или Беркли, Стэнфорда и будете кликать по фотографиям лабораторий, то китайцев там будет половина.
Однако Китай создал инфраструктуру для возврата людей. Получается, американская система тратила колоссальные деньги на подготовку китайских кадров. Эта часть подготовки на уровне аспирантов, постдоков, профессоров — самая дорогая. К тому же люди, которые впитали лучший опыт, лучшие знания в Америке, теперь фактически делают трансфер технологий
— Над какими конкретно продуктами вы работаете?
— Я действительно хочу решить проблему всей совокупности аутоиммунных заболеваний. Я хочу победить диабет первого типа, потому что до сих пор люди с диабетом первого типа вынуждены лечиться, вкалывая себе инсулин, контролируя уровень глюкозы, и, в общем-то, кроме этого, у них ничего нет. Диабет, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, рассеянный склероз, красная волчанка.
— Принципы исследований похожи?
— Да, и принцип, который мы можем исповедовать в лечении аутоиммунных заболеваний, ровно такой же, какой мы могли бы использовать и используем для лечения онкологических заболеваний.
Сражаясь с диабетом первого типа, вы — о сюрприз — можете и онкологию победить. Поскольку диабет первого типа — это про иммунную систему, а прогрессивное лечение онкологических заболеваний именно через иммунотерапию — это иммунология. И вирусологические всякие заболевания — это опять же иммунология. То есть у нас нарисовался интересный букет заболеваний, где можно себя попробовать.
И мы, моя лаборатория, этим и занимаемся: мы создаем инструменты редактирования генома и способы доставки этих инструментов для решения таких проблем, как инфекционные заболевания, аутоиммунные или онкологические.
![]() Китай создал инфраструктуру для возврата людей. Получается, американская система тратила колоссальные деньги на подготовку китайских кадров. Эта часть подготовки на уровне аспирантов, постдоков, профессоров — самая дорогая. К тому же люди, которые впитали лучший опыт и лучшие знания в Америке, теперь фактически делают трансфер технологий
Китай создал инфраструктуру для возврата людей. Получается, американская система тратила колоссальные деньги на подготовку китайских кадров. Эта часть подготовки на уровне аспирантов, постдоков, профессоров — самая дорогая. К тому же люди, которые впитали лучший опыт и лучшие знания в Америке, теперь фактически делают трансфер технологий
Мы также ведем исследования по созданию клеточной терапии для лечения нейродегенеративных заболеваний при помощи стволовых клеток. Для терапии заболеваний сетчатки ведутся разработки различных подходов, которые включают в себя генную терапию, нейропротекцию, регенеративные терапии с использованием стволовых клеток и так далее.
Наша команда работает над созданием терапии для врожденной дисфункции коры надпочечников. Это группа заболеваний, обусловленных дефицитом одного из ферментов, участвующих в биосинтезе кортизола. В большинстве случаев дефицит обусловлен мутациями в одном гене, CYP21A2, экспрессирующемся только в коре надпочечников. Стратегия терапии, предлагаемая нами, предполагает интеграцию нормальной копии гена в геном стволовых клеток коры надпочечников для обеспечения пожизненного терапевтического эффекта.
Моя цель — транслировать накопленные в избытке фундаментальные знания во что-то практичное. Но в науке постоянно что-то не получается. Любой человек в таком случае унывает. Вот почему в науку отбираются люди, которые хорошо борются с унынием. Они понимают, что удовлетворение, которое они испытывают, когда что-то получается несравнимо ни с чем.Темы: Наука и технологии