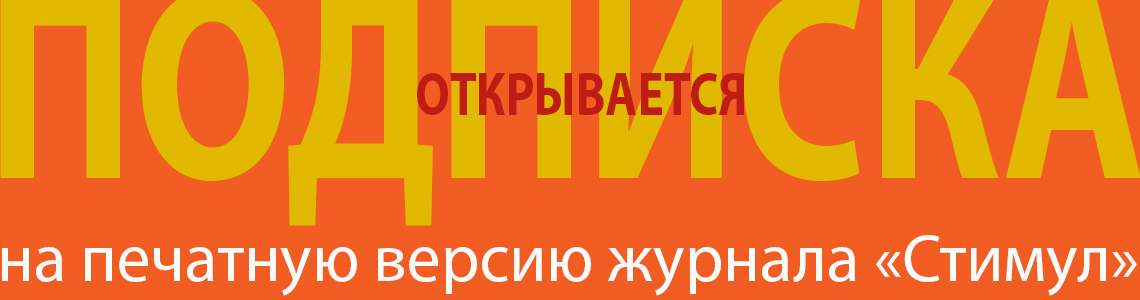Со скальпелем под пулями

25 ноября 1810 года в Москве в семье майора Ивана Ивановича Пирогова, казначея провиантского депо, родился сын, названный Николаем. Он был самым младшим в большом семействе. Жили зажиточно, со служанкой и нянькой. Пользовались услугами одного из самых известных в Москве врачей — Ефрема Осиповича Мухина, автора многих медицинских трактатов и декана отделения врачебных наук Московского университета. Мухин по-барски стряхивал с себя шубу, брал свой саквояж и шествовал к часто болевшему брату Николая. Его зычный голос завораживал. Именитый доктор бывал в доме частенько и стал для маленького Пирогова кумиром. Николай играл «в Мухина» постоянно, он буквально терроризировал всех домашних, подвергая их постоянным «обследованиям» и игрушечному лечению. Эта игра ему никогда не надоест.
Первые годы Николай учился в частном пансионе, но не смог его окончить, поскольку в семье случилось несчастье. Один из подчиненных майора Пирогова пропал с крупной суммой денег. Возмещение повесили на Ивана Ивановича. Все его имущество было описано и продано, из дома пришлось выселяться к дальним родственникам. По совету Мухина старший Пирогов постарался получить документик, где значилось, что Николаю Пирогову исполнилось шестнадцать лет (на самом деле ему было четырнадцать) и он может поступить в университет. Николай оправдал ожидания, сдал все экзамены, университетские преподаватели нашли его способным к слушанию профессорских лекций в звании студента.
В университете ему повезло с учителями. Тот же Ефрем Мухин проводил идею о взаимосвязи всех органов и частей тела в организме, не менее известный Матвей Мудров твердо настаивал на врачевании больного, а не болезней, а Христиан Лодер заразил его любовью к анатомии. И хотя позже, видимо сгоряча, Пирогов отпустил немало колкостей в их сторону в своих многочисленных дневниках и трактатах, впоследствии он признавал, что именно они показали ему самое важное направление в его жизни.
Не физиолог, так хирург
В девятнадцать лет Пирогов окончил университет и по совету и протекции все того же Мухина отправился в Дерптский (сейчас Тартуский) университет, где к тому моменту решили открыть Профессорский институт для подготовки высококвалифицированных кадров. До поездки Пирогову предстояло выбрать направление учебы. Он был увлечен физиологией. Мухин был физиологом, но Ефрем Осипович ответил: «Не годится», — и Николай выбрал хирургию. Он был чрезвычайно целеустремленным юношей и страшным трудоголиком. К тому же после обнищания семьи он чувствовал себя не в своей тарелке, вращаясь в обществе более благополучных и богатых слушателей и профессоров. Он хотел быть выше. А выше он мог стать, только обретя профессиональную известность. Он сам признавал, что был весьма честолюбив и жаждал славы. Пирогов учился и работал, забывая о времени. Ведущий хирург Дерпта Иван Филиппович Мойер все чаще привлекал талантливого студента к своим операциям. Свободное от учебы и операций время Пирогов проводил в анатомическом театре, где препарировал трупы. Он хотел видеть и знать, как устроено тело, в мельчайших подробностях, чтобы затем стать хирургом, работающим с ювелирной точностью. Уже в первый год учебы в Дерпте Пирогов написал научную работу о перевязке больших артерий и получил «превосходнейшую», по словам профессоров, оценку. Позже его диссертация, в которой он раскрыл все тонкости перевязки брюшной аорты, предложив при этом более щадящий метод внебрюшинного вмешательства, потребовала дотошного изучения и сотен опытов на животных. Он защитил ее в 1832 году. После этого он отлично сдал все экзамены.
Молодой профессор мечтал вернуться в Москву. Но сначала предстояла запланированная для выпускников заграничная командировка: они должны были еще поднабраться опыта у немецких хирургов. Наблюдая за немецкими светилами, Пирогов отмечал, что хирургия у немцев практически отделена от анатомии и физиологии. Отчасти хирурги походили на ремесленников высокого класса. У знаменитых Грефе и Диффенбаха можно было поучиться ювелирному мастерству орудования скальпелем, но одним из лучших учителей для Николая оказался ассистент Грефе — отличный анатом Шлемм, выступавший для Грефе кем-то вроде штурмана. Очень важным для юного профессора было и знакомство с госпожой Фогельзанг, господствовавшей в покойницкой берлинской больницы Шарите. Она была такой же фанаткой, как и сам Пирогов. Вдвоем они провели немало времени над трупами, восхищаясь добытыми в процессе препарирования находками.
Немецких хирургов совсем не интересовало, что происходит с органами и тканями больного человека. Пирогов же понимал, что видит изменения, наступившие вследствие болезни, и это дает понимание ее причин и возможностей для правильного вмешательства. Все последующие годы Пирогов проводил в покойницких и анатомичках столько времени, сколько мог. Он неустанно описывал свои изыскания, искал методы самых точных описаний. Однажды он пришел к выводу, что препарировать нужно замороженные трупы, поскольку именно это дает возможность увидеть органы в застывшем состоянии. При препарировании мягких тел органы и сосуды смещались и не давали точной картины своего положения. А хирург должен точно знать, где что находится, чтобы во время операции быстро добраться до нужного места и сделать все необходимое максимально щадящим способом.
Нос цирюльника
По окончании профессорского института в Дерпте у выпускников спросили, куда бы они хотели распределиться. Пирогов ответил: в Московский университет. Он очень надеялся на это. Но не случилось. Возможно, волею случая. В дороге он заболел, кашель раздирал его на части, и он вынужден был лечиться в Риге. А тем временем кафедру в Московском университете получил его сокурсник Федор Иноземцев, тоже, кстати, будущий талантливый хирург. Пирогов косился на него еще в Дерпте: тот был красив, элегантен, блистал в обществе, но не только — в учебе и в хирургическом деле тоже. Пирогов же был некрасив, плохо одет и в покойницкой чувствовал себя много лучше, чем на светских вечеринках. К тому же он ревновал к успехам Иноземцева. «Он назначен был разрушить мои мечты…», — писал Пирогов. Впрочем, впадать в уныние он не собирался. Лучшее средство от него — работа.
Едва поднявшись на ноги, он впервые начал самостоятельно оперировать, там же, в Риге. Причем прославила его весьма неординарная операция. Местный цирюльник нечаянно отхватил себе опасной бритвой нос. Пирогов выкроил ему новый, и пластическая операция прошла удачно. Ну а потом понеслось: он удалял из почек камни, вырезал опухоли, к чудесному хирургу выстраивались очереди. Но Пирогов, окончательно поправившись, вернулся в Дерпт. Его бывший учитель Иван Мойер, уже понимавший, что ученик превзошел его, благородно отдал ему кафедру и первенство в клинике. Пирогов бросился в работу: читал лекции, делал операции, резал трупы, писал научные труды. К нему на лекции приходили не только студенты, но и врачи, поскольку слава его росла. В 1837 году вышел первый том его «Анналов хирургического отделения клиники Императорского университета в Дерпте», через два года вышел второй том. В них самым скрупулезным образом были описаны многочисленные истории болезней, где Пирогов честно рассказывал не только об успехах, но и об ошибках. С самого начала положил он себе девиз: абсолютная научная честность — и никогда не нарушал его. Даже во вред себе. Знаменитый физиолог Иван Павлов назвал пироговские «Анналы…» подвигом.
Иногда Пирогов «отдыхал»: ездил в Ригу, в Петербург, где практически каждый день оперировал. Наблюдавшие за ним врачи следом делали операции «по Пирогову». Они пользовались его описаниями и атласами как навигационными указаниями, потому что составлены они были безупречно.
Петербург, Кавказ, Севастополь
В 1838 году Николая Пирогова позвали на кафедру в Медико-хирургическую академию Петербурга. Он был воодушевлен. Ему было всего двадцать восемь, а профессор Пирогов уже был хорошо известен, почти знаменит. Он попросил присоединить к академии военно-сухопутный госпиталь, который практически отдали ему во владение. И это была далеко не дерптская клиника, почти игрушечная, на 22 койки, ухоженная и благополучная. Здесь вокруг была грязь, беспечность и неграмотность по отношению к больным, воровство. Профессору пришлось закатать рукава и наводить порядок везде, куда проникал его взгляд. Пирогов писал в рапортах: «Всякий врач должен быть прежде всего убежден, что злоупотребления в таких предметах, как пища, питье, топливо, белье, лекарство и перевязочные средства, действуют так же разрушительно на здоровье раненых, как госпитальные миазмы и заразы». Кстати, под миазмами Пирогов понимал нечто «органическое, способное развиваться и возобновляться» в то время, когда микробы еще не были известны. Он говорил о заразности и старался так организовать работу, чтобы постелями одних больных не пользовались другие, инструментами после одних операций не делали следующих, перевязочными материалами не пользовались много раз. При том что в собственной клинике дел было по горло, он оперировал еще в нескольких петербургских и окрестных клиниках. Десятки и сотни операций оттачивали его мастерство, обогащали новыми знаниями.
По инициативе Пирогова при Академии был создан анатомический институт. Иногда Пирогова называют первооткрывателем наркоза. Это не так. Первым применил эфир для операции американец Мортон в 1846 году, оперировал доктор Уоррен. Первую же операцию в России под эфирным наркозом годом позже сделал Федор Иноземцев. Пирогов, который думал о чем-то, подобном наркозу, не спешил, хотя снова был раздосадован, что не первый. Зато он первым начал делать операции под наркозом на полях сражений. Шла война с горцами на Кавказе. И там, под Салты, в импровизированном госпитале под открытым небом, делал десятки операций в день. «Отныне эфирный прибор будет составлять, точно так же, как и хирургический нож, необходимую принадлежность врача во время его действий на бранном поле». Насчет эфирного прибора он ошибался. Вскоре на смену эфиру пришел хлороформ, который был значительно удобнее в применении.
#image-kit_923Вернувшись в Петербург, Пирогов, уже не впервые, столкнулся с интригами и злословием в его адрес, что было неудивительно при его принципиальности и прямоте. Выходом снова стала поездка на войну — на сей раз в Севастополь В Севастополе он ужаснулся не столько даже бессчетному числу раненых, а свалкам раненых на холодной земле без всякой помощи, в чудовищной неразберихе. Естественно, что помимо десятков ежедневных операций он брался за организацию распределения раненых. Пирогов понимал, что нужно отделять тяжелобольных от тех, кто еще может подождать, гангренозных, или «нечистых» от сравнительно чистых. Он придумал складочное место для раненых, чтобы именно туда доставляли их из окопов, чтобы можно было разделять их на соответствующие группы. Сортировка раненых позволяла значительно уменьшить смертность от инфекций, а также ускорить проведение операций, которые он стал делать как на конвейере. Этому способствовала четкая организация врачей, анестезиологов и медсестер. Кроме того, Пирогов первым применил гипсовые повязки, идея которых пришла к нему во время наблюдения за работой скульптора.
Дневник старого врача
После Севастополя Пирогова все больше раздражала атмосфера в академии. От него все устали, и он устал от этого болота. Казалось, наступало время перемен. Пирогов размещает в одном из журналов давно написанную статью «Вопросы жизни», в эпиграфе к которой был поставлен вопрос: «К чему вы готовите сына?» — «Быть человеком». Пирогов ушел из академии и охотно согласился на новое поприще — попечительство Одесского учебного округа. О, как просчитались бюрократы, считавшие, что получат непрофессионального начальника! Он, как в анатомическом театре, стал дотошно изучать систему, описывать ее и находить «болезни». Он решил, что ему мало лечить болячки, ему нужно лечить общество. Он боролся с розгами, ввел литературные чтения, прививал учителям и ученикам мысль, что нужно не зубрить, а думать. Он реформировал Ришельевский лицей в университет, считая, что тот должен ковать более профессиональные и высокие кадры. Позже, когда Пирогова перевели в Киев, он организовал институт воскресных школ, по поводу чего снова впал в немилость, поскольку далеко не всем нравилась идея учить низшие слои. В конце концов в 1861 году его уволили. Ему был всего пятьдесят один год. При его активности он почти что впал в прострацию: что делать? «Может ли быть, чтобы такие люди долго оставались без дела, — писал Константин Ушинский, — когда каждый день их жизни, потерянный для государства, есть величайшая потеря, потеря, ничем не вознаградимая?»
Пирогов уехал в свое имение в селе Вишня, но пробыл там недолго. Его попросили участвовать в возрождении Профессорского института в Дерпте. Он зажегся, да как! Объездил двадцать пять европейских университетов, препарируя их и вынимая все ценное, что можно было применить. Его исследованию были посвящены «Письма из Гейдельберга». Во время этих поездок, Пирогов помог весьма знаменитому пациенту — Джузеппе Гарибальди. Тот был ранен, ногу собирались ампутировать, Гарибальди сопротивлялся. Пирогов сам поехал к раненому и вынес решение, что ампутация не обязательна, достаточно извлечь пулю и лечить.
Пирогов возвращается в Вишню. Но не сидит, конечно, без дела. К нему постоянно идут больные. А в 1870 году опять срывается и едет по поручению Красного Креста на поля Франко-прусской войны. Он консультировал врачей и помогал им. Потом снова в Вишню. И снова на войну, на сей раз — Русско-турецкую. Обследовал лазареты и госпитали, санитарные поезда, составлял план борьбы с тифом. Он был весь седой, плохо слышал, уже неважно видел, но энергии этого шестидесятилетнего человека могли позавидовать и молодые. И, как всегда, он видел все недочеты и указывал на них в своих докладах. Его наблюдения на всех войнах и его труды стали основой военно-врачебного дела.
В 1881 году Пирогова чествуют в Москве, уговорил приехать Склифосовский, которому Пирогов симпатизировал. Но чувствовал себя Пирогов неважно: беспокоила язва во рту. Его осмотрел и Склифосовский, и другие известные врачи и предложили операцию. Жена потащила в Вену к знаменитому хирургу Бильроту. Тот сказал, что язва доброкачественная и оперировать не стоит. Но Пирогов поставил себе диагноз сам, написав на клочке бумаги: ни Склифосовский, Валь и Грубе, ни Бильрот не узнали раковой язвы. С мыслью о близкой смерти он снова едет в Вишню. И там пишет последний свой труд — «Вопросы жизни» с подзаголовком «Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой».