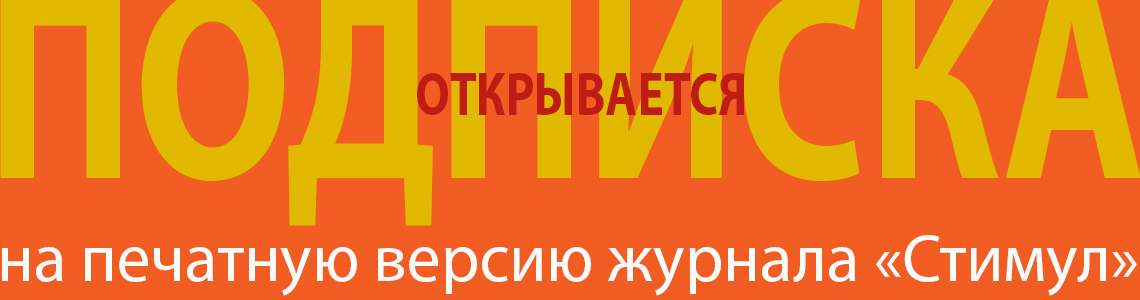Отказ мирового стабилизатора
Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа было вернуть промышленность в Штаты — для того, чтобы вернуть рабочие места и преодолеть зависимость от Китая. Став президентом, он узнал, что дела обстоят еще хуже, чем он предполагал, что «Америка ничего не производит». Встает вопрос, почему это произошло, какие причины лежали в основе выбора такой экономической идеологии — экономики услуг — у предыдущих президентов.
Дело тут, однако, не в экономической идеологии, которую все ругают без особого эффекта, а в куда более сложных и неподатливых структурных процессах. Как раз в этом случае наглядно прослеживается, что идеология следовала за политикой и экономикой. Точнее, за теми проблемами, которые вставали в 1970-е годы перед всеми индустриально развитыми странами, причем как на Западе, так и в советской зоне мобилизационных социалистических экономик.
Это требует достаточно развернутого пояснения, поскольку нам придется основательно сместить перспективу от ныне общепринятой к тому, что в исторической макросоциологии называется миросистемным взглядом. Начать рекомендую с книги итальянского ученого Джованни Арриги «Долгий двадцатый век: деньги, власть и истоки нашего времени», переведенной в том числе и на русский.
Арриги, писавший в конце 1980-х, тогда нашел объяснение только начинавшейся финансиализации американского бизнеса в длительных вековых циклах, описанных еще великим французским историком Фернаном Броделем.
Впервые современный капитализм Запада возникает в итальянских городах-государствах эпохи Ренессанса: в Венеции, Флоренции, Генуе. Но в XVI веке эти торговые республики превращаются в геополитических карликов на фоне первой глобализации времен Великих географических открытий. Что делать? Предприимчивые итальянцы встраиваются в качестве экспертов-финансистов в стремительно расширяющуюся империю испанских Габсбургов с ее потоками драгоценных металлов из Южной Америки. Не случайно Христофор Колумб был генуэзцем.
Далее первенство переходит к кластеру голландских торговых республик, которые под знаменами протестантизма развернули свои войны за высвобождение от испанской католической короны. На океанских судоверфях Амстердама впервые создается практически современное поточное производство парусных кораблей. Там же возникает первая в мире биржа, концентрировавшая частные капиталы для вложения в уже глобальную торговлю и фрахт. Безошибочно видя это, Петр I идет в ученики именно к голландцам.
Однако сами Нидерланды вскоре оказываются слишком малы и в итоге сознательно идут на союз с Англией в качестве младшего, хотя и почетного, «умудренного» партнера. Утратив к началу XVIII века ведущие позиции в торговле и производстве, голландские купцы переносят свои инвестиции в банковскую сферу. Замечаете логику? Опять от торговли — к финансам.
Англичане, первопроходцы индустриальной революции, проходят аналогичную эволюцию в течение XIX века, который они начинали «мастерской мира», а завершают банковским сердцем капитализма в лондонском Сити — и, конечно, столицей огромной колониальной империи.
Где-то в 1870-х годах мощно выходят на арену два индустриальных гиганта, претендующих на британское наследство. С одной стороны, это США, преодолевшие свои внутриполитические противоречия в ходе кровопролитной гражданской войны Севера и Юга. Со времен президента Линкольна и генерала Гранта Америка собирает воедино свой огромный экономический потенциал целого континента.
С другой стороны, строится могучая военно-индустриальная машина кайзеровской Германии, наконец объединенной при Бисмарке. Ей теперь так не хватает собственных колониальных ресурсов — пресловутого Lebesraum, «жизненного пространства».
Добавьте сюда модернизацию Японии, успешно проведшей свою централизаторскую революцию под лозунгом «реставрации Мэйдзи». И не забудьте Российскую империю, начавшую быстро, хотя и противоречиво изменяться после реформ 1861 года.
Вот почему XX век оказался «долгим». Его основные силы и их конфликты складываются еще в 1870–1900-х годах из модернизационных попыток держав второго ряда догнать и перегнать индустриальную империю Великобритании. В ходе череды мировых войн 1914–1945 годов Великобритания вынуждена была встроиться в американскую глобальную стратегию — опять-таки на почетных условиях наставника, «умудренного» в финансах и мировой политике. После 1945 года Япония и ФРГ, оказавшие столь опасное сопротивление, также получают возможность реализовать свои экономические амбиции (но ни в коем случае не геополитические) в качестве особых партнеров США.
Россия же, пройдя через кровавую революцию и сталинскую модернизацию, становится после 1945 года альтернативной сверхдержавой. Отныне СССР — признанный противник, конфликт с которым сознательно переносится из геополитики в сферы пропаганды, гонки наукоемких вооружений плюс космоса, культуры и спорта. Стратегия сдерживания означала именно холодную войну.
И тут около 1968 года все индустриально развитые страны неожиданно и разом сталкиваются с внутренними протестами. Протестуют теперь вовсе не крестьяне и даже не в первую очередь рабочие, а высококвалифицированные специалисты новых технологических укладов — то, что в СССР не совсем точно, по аналогии с царской Россией, называлось интеллигенцией. На деле это были совершенно новые слои работников эпохи НТР в сферах образования, культуры, науки и техники. Их тяготил прежде всего бюрократический контроль, государственный либо корпоративный, не дававший развернуться самореализации и творческой инициативе. Иначе говоря, передовые спецы и особенно их будущее студенческое поколение шумно восстали с требованием привести политические реалии, унаследованные из довольно мрачной и авторитарной первой половины ХХ века, в соответствие с их социальным весом и притязаниями, резко возросшими во второй половине ХХ столетия. Если хотите, то была попытка революции не по Марксу, а по Максу Веберу — высвобождение из «железной клетки» бюрократической опеки.
Первой реакцией повсюду стали щедрые уступки индустриальным рабочим — то самое «улучшение массового благосостояния». Власти повсюду интуитивно поняли, что без рабочих протесты креативной интеллигенции провалятся. Профсоюзы получили вдруг ранее неслыханные льготы, причем как на Западе, так и в советской зоне. Вспомним венгерский «гуляш-социализм» и польскую «Солидарность». В самом СССР это совпало с резким увеличением доходов от экспорта нефти и газа, позволившим на какое-то время комфортно обставить брежневский «застой».
Но что дальше? Впервые в истории социальные издержки развитых государств начинают превышать их традиционные военные расходы. Добавьте к этому ранее беспрецедентные экологические требования к промышленности, которые начинают нарастать именно с конца 1960-х. Наконец, обе сверхдержавы задаются вопросом: а вообще, кто тут экономические сателлиты, а кто метрополии? В первые послевоенные десятилетия субсидирование союзников выглядело необходимой частью глобальной стратегии противостояния двух систем. К 1970-м, однако, восстановившийся автопром Японии и Западной Германии (по сути ВПК бывших противников) наводняют рынок США своими «тойотами» и «фольксвагенами». В Москве тем временем втайне задаются неприятным вопросом: доколь же кормить Восточную Европу?
Вот тогда Америка резко поворачивает от своего некогда классического «фордизма» (режима массового индустриального производства и массового потребления) к операциям в заоблачной сфере глобальных финансов. Да и Америка тоже — как некогда генуэзцы, голландцы и британцы.
Дерегуляция, то есть демонтаж Нового курса времен Рузвельта, становится программой администрации Рейгана, потому что американский бизнес ищет себе выхода в свободе инвестирования куда угодно в мире, где не будет настырных профсоюзов и экологических протестов. Тем более от подобных земных требований изолирован финансовый и посреднический инвестор, обитающий в кабинах бизнес-класса и в офшорах. Повторяется, с поправкой на реалии конца ХХ века, тот же циклический сдвиг от ставших слишком конкурентными производства и торговли к чисто финансовым спекулятивным инвестициям. Экономика «услуг» и постиндустриальных видов «знания» есть вежливое выражение финансиализации американского капитала, теряющего былые преимущества на рынках индустриальных товаров и потому покидающего материальное производство ради спекулятивных прибылей.
В пору задаться вопросом: неужели никто не понимал, что рано или поздно деиндустриализующаяся страна попадет в зависимость от стран, в которые переезжает промышленность? Конечно, где-то понимали. Но ведь понесся исторический поток.
Как говорил Виктор Черномырдин, не до того им было. Политикам западных демократий положено мыслить сроками от выборов до выборов. Плюс к тому, вспомнимте сами, как выглядел Китай в начале 1980-х — огромная голодная страна, измотанная маоистскими «скачками» похуже Северной Кореи. Когда еще он дорастет до уровня соперничества с самой Америкой?
Тем более что рядом были примеры Японии и Южной Кореи, которые после бурного индустриального подъема израсходовали свои человеческие и финансовые капиталы и вступили в длительную фазу низких темпов роста и, главное, признания первенства Америки, без которого их собственные экономики захлебнулись бы вовсе. Там ведь вопрос как-то сам собой решился, не так ли?
Дерегуляцию и аутсорсинг промышленности пролоббировали определенные экономические силы. В первую очередь крупный бизнес. Но это слишком общий ответ. С президентства Рейгана американское правительство стремительно превращается в глобального должника. Уолл-стрит приобретает как никогда большое влияние на политические решения уже просто потому, что всякое понижение кредитного рейтинга федеральной администрации чревато многомиллиардными издержками на обслуживание госдолга. Билл Клинтон, осознав провал своей программы реформирования изумительно расточительного здравоохранения в США, только и мог воскликнуть: Fucking Wall-Street bankers! (Хреновы банкиры!).
Впрочем, в том-то и преимущество сверхдержавы, что ей не грозил долговой дефолт, как какой-нибудь Мексике. У ведущих государств огромная инерционная мощь и глубокие заделы. Доллар остается мировой валютой. Вы не задумывались, отчего цены на нефть котируются в долларах за какие-то архаические баррели? Американские университеты по-прежнему сосредотачивают научные и идейные ресурсы мира. Это и технические инновации, но также школы бизнеса и экономические факультеты, где принимается только неолиберальная ортодоксия. А насчет пресловутой в наших краях политкорректности — это ведь удел ярких, но мало на что влияющих гуманитариев, которым предоставлено ратовать за права меньшинств, лишь бы не впадали в более радикальную критику системы и, упаси боже, в какой-нибудь неомарксизм.
Тем временем весь мир развлекается и равняется по массовой продукции Голливуда и американского телевидения. Влияние этого пиара никак нельзя сбрасывать со сверхдержавных счетов.
Главное же, остается глобальная сеть американских военных баз. Они размещены и в ФРГ, и в Японии, и в арабских нефтяных монархиях. Расширение НАТО, военные операции в Косово и следом в Афганистане и Ираке послужили поводом для демонстрации исключительной военной мощи и политического влияния США. Внеэкономические преимущества сознательно культивируются и поддерживаются. Американское центральное влияние по-прежнему не объедешь. А вот как этим рулить?
Давайте сами не будем впадать в вульгарный марксизм. Господствующий класс есть абстракция, которую едва ли можно где-то увидеть целиком. В реальности действуют фракции элит, населяющих верхние эшелоны тех или иных организаций: правительственных, военных, корпоративных, партийных, научных, вдобавок на региональном либо глобальном уровне. Противостояние Трампу со стороны значительной части американской элиты выявило остроту фракционных конфликтов. Сегодня нет никакого единства в понимании опасностей сложившейся ситуации — деиндустриализации Америки. Откуда взяться единству, когда непонятно, за какой инструмент следует браться?
Военная сила со времен Второй мировой войны служила и верховным аргументом мировой гегемонии США, и источником идеологической гордости своим флагом, и локомотивом для передовой науки и индустрии. Но оружие эффектнее всего смотрится на парадах. Когда же рычаги этой махины оказались вдруг в руках, по сути, дерзких авантюристов Буша-младшего и Дика Чейни, сомнения в здравости американской гегемонии сделались общим местом. Провал интервенции на Ближнем Востоке (и не только там) дискредитировал военную силу как источник влияния. Трамп как раз и пытается, по своему собственному наитию дельца и популиста, провести отход и переложить часть бремени на изворачивающихся союзников.
Вторым колоссальным рычагом были, конечно, финансы. Но грянул кризис 2008 года, и администрации Обамы удалось предотвратить повторение Великой депрессии ценой фактического отрицания как своей же рыночной идеологии, так и процедур демократии. Центробанки Запада, то есть государственные учреждения, при вынужденно молчаливом потворстве Китая спасли рушащиеся финансовые пирамиды за счет денег налогоплательщиков, которых по-своему вполне разумно, но и нечестно держали в неведении о масштабах спасательных мер и их дальнейших последствиях.
Сейчас на русский переводится замечательная книга британского экономического историка Адама Тузе под простым названием «Крах», где соединяются вроде известные всем недавние новости в единую картину даже не аферы, а, по словам Тузе, «крушения поезда». Как нередко случается в узловые моменты истории, сумма индивидуально рациональных решений по бегству от кризиса оборачивается коллективно иррациональным результатом. Распад СССР нам ближайший пример.
Среди главных последствий кризиса 2008 года как раз невозможность проводить какую-либо индустриальную политику. На это нет денег и не будет. Налоговые поступления пока по-прежнему гигантские, но и расписаны они долговыми обязательствами надолго вперед. Мой коллега американский социолог Ричард Лахманн в своей последней книге сравнивает это с серией дефолтов той самой испанской короны, которая в итоге проиграла вроде бы крохотным протестантским Нидерландам. Уязвимость габсбургской Испании была в том, что ее колоссальные по меркам своего времени доходы были политически захвачены собственной феодальной олигархией благородных донов плюс церкви. Нечто подобное с 1970-х наблюдается и в США, только теперь это не феодалы, а финансовые транснациональные гиганты с обслуживающими их интересы политиками, деловой прессой и авторитетной профессурой. Надежды на технологическое чудо, способное вдруг заменить китайских работниц американскими роботами, выглядят сродни упованию на чудо-оружие в конце проигранной войны.
Так значит, все-таки Китай и восхождение Азии к новой мировой гегемонии? Это тема для другого разговора, но если совсем кратко, то китайские перспективы слишком сомнительны. Да, Китай есть мировая сила. Но мировой лидер?
Боюсь, никто сегодня не способен упорядочить мир и вывести его на новое плато благополучия и порядка, как некогда смогли Британская империя в XIX веке и США совместно с СССР в середине XX столетия. Это означает, что нас всех ждет, мягко говоря, период турбулентности. Вопрос для России и всех постсоветских стран, как через это пройти.