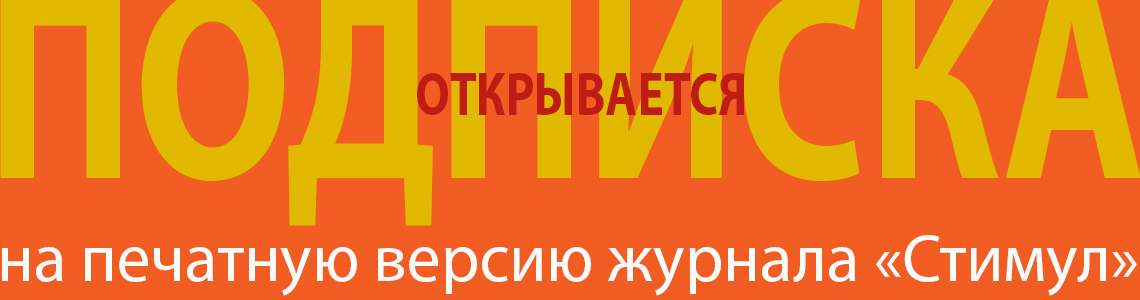Кто сегодня пойдет на грозу?

Наше сознание питается историями героев. Мы живем подражанием архетипам. Поиск смыслов, о котором и о которых мы говорим уже с четверть века (едва ли не первым забил тревогу Даниил Дондурей), — не что иное, как поиск ролевых моделей поведения.
Недавнее исследование показало, что главный герой наших бумеров — Штирлиц, миллениалов — Данила Багров, а зумеров — Человек-паук. Своих ученых-героев у нас нет. Хотя кругом они есть. Поэтому вопрос для сценариста стоит просто: как сделать из ученых киногероев? Чтобы кому-то подражать, надо сначала о нем узнать.
Не уверен, что многие хотят подражать Григорию Перельману, но в его образе поведения есть то, что восхищает людей любых национальностей, времен и поколений: независимость. Восхищение необязательно (и слава богу) переходит в подражание, но свидетельствует о наличии определенных общих ценностей — очевидно, тех самых, которые бюрократическим языком называются традиционными духовно-нравственными.
Нам нравятся герои, которым мы хотели бы подражать, но не можем. Представьте элементарное: ученый Штирлиц, ученый Данила Багров и ученый Человек-паук. Такая история требует научной («производственной») сюжетной линии, которая, по сути, и создает историю. Огромная беда постсоветского кино в том, что оно утратило связь с реальностью.
«Красотка» как производственный фильм
Как ни парадоксально, советские идеологические запреты для кино оказались куда более благотворными, чем свобода. Многие пытались понять, откуда в кино взялись тридцать лет «чернухи». Версии по преимуществу сводились к козням врагов (которые, разумеется, исключать не стоит), но у меня есть более простой профессиональный ответ. Чернуху писать очень просто. Чернуха не требует знания драматургического ремесла. Все просто плохо, потом еще хуже, а когда драматургический конфликт должен был бы быть разрешен — просто «все умерли».
Вот на этой доступности и рухнул барьер входа в профессию, когда спрос опередил предложение. В определенном смысле такое происходит и сегодня. С экономикой кинобизнеса не поспоришь, но когда единственным инвестором кинематографа осталось государство, возникает вопрос: должен ли этот инвестор что-то получать взамен миллиардов, вкладываемых в индустрию и достающихся продюсерам?
![]() Когда мы говорим о кино «про ученых», мы должны понимать, что разговор идет прежде всего о кино. У нас сейчас, к глубокому сожалению, все кино, выходящее за рамки развлекухи, глубоко сегментировано. Скажем, патриотическое кино — один сегмент, индустриальное — другой
Когда мы говорим о кино «про ученых», мы должны понимать, что разговор идет прежде всего о кино. У нас сейчас, к глубокому сожалению, все кино, выходящее за рамки развлекухи, глубоко сегментировано. Скажем, патриотическое кино — один сегмент, индустриальное — другой
Реализация социальной функции кинематографа требует от государства не идеологического диктата, но постановки задач. И они в декларативном смысле есть. В приоритетных темах для господдержки кинематографа в прошлом году значилась «Наука России: инновации, технологии, приоритеты», а в этом — «Мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей. Повышение социального статуса рабочего и инженера, научно-исследовательской и инновационной деятельности». Правильные и достаточно широкие формулировки.
Вопрос, чем на это отвечает профессиональное сообщество. Документальное кино отвечает. Игровое — примерно никак, хотя то же документальное кино дает необычайно богатый материал, который можно трансформировать в игровые истории. Обратите внимание на гигантское количество киноисторий, которые в США снимают «по мотивам реальных событий», выкупая права на книги нон-фикшен или журналистские репортажи. У нас сегодня такое можно представить?
У нас и журналистика-то схлопнулась на представлении о том, что ее главный материал — скандалы, интриги и расследования. На том, что других конфликтов практически не существует — или они неинтересны. Самое, наверное, важное и нужное — социальная журналистика — оказалось в загоне. Словно конфликты бывают только криминальные или с властью. Отражение этого мы и видим в кино, которое тоже срез общества.
Вместо образа времени у нас образ безвременья, и не как многозначительная политическая метафора, а как вакуум смыслов, ролевых моделей поведения. Когда сегодня (в среднем по больнице) сценарист собирается написать какую-то историю, он думает о сюжете: что бы такого новенького изобразить. Особенно когда от него требуют историю про очередных содержанок и (или) коррупционеров. А вот о том, что этой историей он хочет сказать, не думает. И чему должна, не побоюсь этого слова, учить ролевая модель поведения его героя. Потому что заказчики, опять-таки в среднем по больнице, об этом не думают тоже.
Утверждения, что искусство должно кого-то чему-то учить, многие пугаются. С одной-то стороны, искусство никому ничего не должно. Когда вы творите его, не выпрашивая ни у кого денег. Другое дело, что вопрос финансирования не снимает вопроса о смыслах. О том, какие чувства пробуждает лира художника, что в свой жестокий век восславляет и к чему призывает. Смыслы кончились вместе с советской властью, и результат, который мы получили в искусстве и кинематографе, налицо.
Целеполаганию должны отвечать технологии. И технологии разработки смыслов в драматургии существуют. Речь, разумеется, идет не о технологиях пропагандистских манипуляций (хотя суть любого искусства манипулятивна). Но убеждают читателей или зрителей не лозунги, а характеры, модели поведения героев. Художественная правда.
«Тихий Дон» не за или против коммунистов. И «Белая гвардия». Художественная правда — про человека и за человека, а не идеи его улучшения. Я недавно обнаружил написанную еще несколько лет назад статью какого-то оппозиционного филолога. Он очень серьезно объяснял политический вред, причиняемый нынешнему протестному движению Достоевским, именно тем, что революционеры в «Бесах» разоблачаются не пропагандой, а демонстрацией того, к чему ведут модели их поведения.
![]() «История про ученого» — это не жанр. Жанр может быть детективом или мелодрамой, драмой или комедией. А любой из этих базовых жанров может быть основой для фантастической комедии, детективного триллера, исторической драмы или мистической истории любви. И что угодно из этого может быть историей про ученого
«История про ученого» — это не жанр. Жанр может быть детективом или мелодрамой, драмой или комедией. А любой из этих базовых жанров может быть основой для фантастической комедии, детективного триллера, исторической драмы или мистической истории любви. И что угодно из этого может быть историей про ученого
Когда мы говорим о кино «про ученых», мы должны понимать, что разговор идет прежде всего о кино. У нас сейчас, к глубокому сожалению, все кино, выходящее за рамки развлекухи, глубоко сегментировано. Скажем, патриотическое кино — один сегмент, от которого либералы воротят нос (к сожалению, от его качества очень часто воротят нос и патриоты), индустриальное — другой (кому интересно, что там у станка происходит), социальное — тем более: наверное, про какие-то проблемы неудачников.
А в Голливуде хорошее кино одновременно и социальное, и патриотическое, и с производственной линией. Без производственной линии не было бы и сюжета фильма «Красотка». А прекрасный фильм Клинта Иствуда «Гран Торино» в формате криминальной драмы представляет социальное кино, направленное на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку отечественного производителя. Сколько раз там ненавязчиво мелькает звездно-полосатый флаг, не счесть. У нас такое и патриоты сочли бы перебором. Интересно, почему?..

Смыслы для развития страны
Технология разработки смыслов относительно проста (по крайней мере в теории). Для начала нужно понять, с какого (ложного) тезиса история начинается, с каким антитезисом сталкивается и к какому синтезу приходит. Герою нужна цель. Предположим, он хочет уехать работать в Америку. С какими препятствиями он столкнется? Как он их преодолеет? Почему останется, когда путь будет открыт? Почему мы в это поверим? Из того, что хороший ученый изобретает что-то хорошее, хорошей истории не сделать.
Наконец, «история про ученого» — это не жанр. Жанр может быть детективом или мелодрамой, драмой или комедией. А любой из этих базовых жанров может быть основой для фантастической комедии, детективного триллера, исторической драмы или мистической истории любви. И что угодно из этого может быть историей про ученого, на которую пойдут зрители. Если она не провалится в прокате.
Сборы в кино не гарантируются и не прогнозируются. Но ключик к ним есть, и это те самые ролевые модели поведения. Зрителей не очень интересуют профессиональные кондиции, на которые обращают внимание кинематографисты (хотя и среди них редко бывает согласие по поводу художественных оценок того или иного фильма). Зрителей интересуют конвенции истории и жанра. Интересуют образы и характеры героев. Прекрасная прокатная судьба бывает и у сказок. Но вот запоминаются на десятилетия почему-то Штирлиц, Данила Багров и Человек-паук.
Мы в Гильдии кинодраматургов совместно с АНО «Национальные приоритеты» опробовали в новосибирском Академгородке формат проведения специальных проектных сессий, которые позволяют разрабатывать концепт киноисторий вместе с прототипами их героев. В советские времена сценаристов могли отправить на завод или в рыболовецкий колхоз, где они за несколько месяцев напитались бы материалом. Сегодня такая практика забыта — еще хорошо, если на фильм приглашают консультанта. И счастье, если его слушают.
![]() Истории про ученых не могут разрабатываться без ученых, а истории про полицейских — без полицейских. Из головы можно выдумать, разумеется, все что угодно, но после этого врачи хватаются за головы, смотря медицинские процедуралы, или подростки — глядя на то, какими их представляют взрослые дяди и тети
Истории про ученых не могут разрабатываться без ученых, а истории про полицейских — без полицейских. Из головы можно выдумать, разумеется, все что угодно, но после этого врачи хватаются за головы, смотря медицинские процедуралы, или подростки — глядя на то, какими их представляют взрослые дяди и тети
Истории про ученых не могут разрабатываться без ученых, а истории про полицейских — без полицейских. Из головы можно выдумать, разумеется, все что угодно, но после этого врачи хватаются за головы, смотря медицинские процедуралы, или подростки — глядя на то, какими их представляют взрослые дяди и тети. Вот платформа «Окко» утверждает, что не запускает ни одной подростковой истории, в которой не было бы консультантов-подростков, и это отрадный пример.
Разработка социального, или, лучше сказать, актуального, кино — задача социокультурного проектирования. Сегодня это, увы, редкость и случайность, как и социальный эффект. Повальная неокупаемость кинематографа — следствие отсутствия этого проектирования в том числе. После премьеры фильмы «Офицеры» в СССР кратно вырос конкурс в офицерские училища, после «Интернов» — в мединституты. А ведь зрители не открывали для себя новую реальность: они видели ее преображенной. Пусть даже в комедийном ключе. Они могли отождествить себя с героями этих фильмов.
Мы плохо знаем и понимаем не только собственную страну, но и самих себя. Соответственно, плохо репрезентируем себя инструментами массовой культуры во внешнем мире. Сейчас много говорят о ремейках советской киноклассики. Но каким языком предлагается ее переводить для современной молодежи? Тупое копирование успеха иметь не может. Современные курьеры — не курьер из фильма Шахназарова. У современных ученых тоже современные проблемы. Тут требуется совершенно новая работа с драматургическим материалом сегодняшнего дня. А навыки адекватного современности драматургического мышления во многом утрачены.
Разработка киноисторий, которые снимаются за большие государственные деньги, должна стать государственной задачей. Не в смысле ограничения свободы творчества, а в смысле целеполагания и экспертного подхода. Критериями должны становиться не тематические слоты (которые сами по себе никого ни в чем не ограничивают), а объединяющие общество смыслы, которые необходимы для развития страны.
* Президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России
Темы: Среда