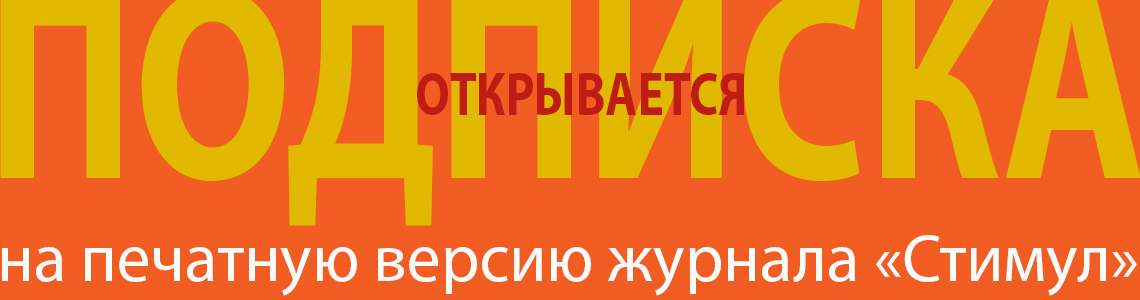О проектных организациях России

Материалы рубрики читайте также в телеграм-канале «Техносфера, подъем!».
В списке проектных организаций и институтов России сегодня числится около 300 предприятий, и мало кто из них может предложить услуги по проектированию новых промышленных технологий или хотя бы по модернизации технологических процессов, когда-то размещенных на объектах, где сырье добывают или перерабатывают.
В этом нетрудно убедиться, посмотрев их уставные документы. В основном современный инженер-проектировщик готов проектировать здания, инженерные коммуникации, дороги, мосты и даже автоматизировать отдельные операции в старых технологиях. Возникают очень большие сомнения в его возможности и способности создать совершенно новый, безопасный и безотходный технологический процесс, исключающий любую материальную и энергетическую зависимость от финансовых и сырьевых монополий.
Практика показывает, что создать нужные и полезные продукты с новыми свойствами и функциями с использованием промышленных технологий прошлого века, без «непредвиденных» затрат и «случайных» аварий, практически невозможно. Отсутствие в технологических процессах признака рациональности позволяет отнести их к классу «недоделанных» и «недодуманных». Конечный продукт таких технологий изготавливается долго, затраты на его создание огромны, отходы получаются невозвратными и опасными, а производительность оборудования вообще не регулируется. Продолжение процесса копирования или тиражирования таких технологий вместе с их внутренними источниками затрат и опасностей становится невыгодным занятием для проектировщиков.
Надо понять причины такой «проектной немощи» и начинать формировать новые проектные технологические сообщества.
Нормативная чехарда
Деятельность проектных организаций регулируется десятком федеральных законов и правительственных документов. Кроме того, инженеры объединяются в региональные группы для декларирования своего потенциала и статуса. В различных «кодексах этики» проектировщиков Черноземья, Сибири, Урала и иных объединениях «изыскателей» формулируются методические рекомендации и правила соблюдения конкурсных процедур в конкретных регионах страны.
В основном современных инженеров-проектировщиков беспокоят не новые технологии и методология превращения научной идеи в технические решения, а спорные вопросы переноса сроков окончания проекта, изменения стоимости работ или уменьшения штрафных санкций.
Такой алгоритм проектной деятельности при выполнении контрактов задается требованиями нормативной системы прошлого века. Одним из документом этой системы (ГОСТ Р 15.301-2016) проектировщикам предписывается не разрабатывать новые технологические процессы, а использовать те технологии, которые уже были когда-то размещены на промышленных объектах. Такой подход обосновывается необходимостью снижения затрат на опытно-конструкторские и технологические разработки. Чтобы не создавать свои собственные технологии, другим документом (ГОСТ 15.311-90) даже разрешается покупать «рабочую техническую документацию иностранных фирм».
![]() В основном современных инженеров-проектировщиков беспокоят не новые технологии и методология превращения научной идеи в технические решения, а спорные вопросы переноса сроков окончания проекта, изменения стоимости работ или уменьшения штрафных санкций
В основном современных инженеров-проектировщиков беспокоят не новые технологии и методология превращения научной идеи в технические решения, а спорные вопросы переноса сроков окончания проекта, изменения стоимости работ или уменьшения штрафных санкций
Таким образом, единая система конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД) не мотивирует ученых, преподавателей университетских школ и инженеров-проектировщиков к насыщению отечественной промышленности новациями. Поэтому у нас практически все промышленные технологии резания, сварки, покраски, шлифования деталей машин являются «классическими», то есть сохраняют в неизменном виде свою затратность и опасность с прошлого века.
К числу таких «классических старых технологий», демонстрирующих «техническую ущербность» проектных организаций, можно отнести, например, полный техпроцесс покраски кузова автомобиля, сохранившийся со времен покраски карет. Технология включает 40 подготовительных операций, 10 базовых и 26 дополнительных и вспомогательных действий рабочего персонала. Несмотря на такую тщательную предварительную подготовку, на кузове автомобиля оседает не более 60% краски. И при этом никто даже не ставит инженерам задачи разработать более эффективные методы нанесения покрытий на поверхности. Ведь очевидно, что такая технология окраски материалов генерирует огромные производственные издержки и является следствием нереализованных возможностей инженера и ученого-химика, который, руководствуясь старыми ГОСТами при разработке очередной рецептуры краски, даже не пытается разрабатывать новую промышленную технологию ее нанесения на поверхности.
В дополнение к нормативным ограничениям на фоне конкурсной чехарды из проектной цепочки было вырвано целое звено — академические и отраслевые НИИ, которые отвечали за создание на объектах реального продукта. Так как новых задач отраслевым НИИ никто не ставил, то за прошедшие полвека у нас так и не было создано ни одной отечественной технологической схемы, обеспечивающей на промышленных объектах минимальные затраты, полную безопасность и полезность продукта производства. Ориентация подготовки инженеров только на эксплуатацию существующих технологий привела к тому, что сегодня у нас в стране нет специалистов — проектантов безопасных технологических процессов с замкнутым циклом переработки отходов в дополнительный полезный продукт.
Так, бесшумно из проектной практики, под прикрытием «международных стандартов» и формальных «кодексов этики» ученых и инженеров, в стране исчезала русская методология проектирования промышленных технологий — безопасных, безотходных и основанных на собственном сырье и собственном оборудовании.
О технологиях ни слова
К сожалению, в университетских школах никто не учит такой методологии проектирования промышленных технологий с минимальным количеством подготовительных и вспомогательных операций. В перспективе нам нужно научиться проектировать одностадийные технологические процессы, а стандартный процесс курсового и дипломного проектирования в университетах основан на старых нормативных требованиях (ГОСТ 2.103-68), которые рекомендуют студентам не разработку технологического процесса, а хотя бы его «описание».
В массовое сознание будущих ученых и инженеров усиленно внедряется мысль о необходимости смены критериев красоты технологии, ее простоты, гибкости и чистоты на критерии «легкого материального благополучия», которые достигаются без всяких усилий, а лишь простым копированием или закупкой за деньги.
В результате инженер за суматохой конкурсных процедур и чередой судебных споров просто перестает замечать ароматы воздуха, плодородие земли, чистоту воды и красоту огня, что порождает иную, чуждую человеку этику восприятия каждой области окружающего пространства, в которой нет места заботе о будущих поколениях. Поэтому и заказчик сегодня умеет формулировать в технических заданиях требования только к конечному продукту, не зная такие параметры технологического процесса, как энергоемкость, управляемость, материалоемкость и безопасность.
Процесс отказа от проектирования технологических процессов принял массовый характер. В школах детей учат не мыслить и не проектировать объект, а собирать из стандартных (купленных) деталей «лего». К сожалению, и в университетских школах перестали рассказывать историю проектной деятельности в России, а в проектных бюро некому вспомнить традиции советской проектной школы, где трансфер результата фундаментальной научной деятельности в промышленность был обязательной процедурой. Все научные идеи студента останавливаются на этапе «стартапа», «научной статьи» или «лабораторного регламента». В учебниках для студентов дается только «понятие» о технологии производства и перечисляются способы изготовления деталей с помощью сверла, пилы и ножниц по металлу, а для работы с полимерными композициями рекомендуются старые и проверенные методы намотки и вакуумно-автоклавного формования.
Из всех восьми природных базовых действий с сырьем и материалами мы освоили только два самых простых: приблизить (сложение) и отдалить (вычитание), то есть можем только что-то либо соединить, сварить, прикрутить или собрать, либо разделить, распилить и отколоть, но всегда с остатком продукта или с избытком сырья. Если же при проектировании технологических процессов использовать иные математические образы (деление, интегрирование, дифференцирование, умножение и т. п.), то технологию переработки сырья в продукт можно сделать безопасной, безотходной и даже одностадийной. Ученые о такой уникальной возможности даже не думают.
![]() Если у ученых до сих пор нет мотивации, а у инженеров-проектировщиков — простого желания содействовать освоению и использованию новых технологий, то никогда в системе «наука — образование — производство» не появится ответственный субъект, отвечающий за «материализацию» новаций и передачу результатов прикладных исследований из науки в производство
Если у ученых до сих пор нет мотивации, а у инженеров-проектировщиков — простого желания содействовать освоению и использованию новых технологий, то никогда в системе «наука — образование — производство» не появится ответственный субъект, отвечающий за «материализацию» новаций и передачу результатов прикладных исследований из науки в производство
Возможно, незнание наукой своих задач и возможностей превращает инженера-технолога в обычного ремесленника. Например, на заводах — изготовителях двигателей до сих пор приходится разбирать их на детали после каждого испытания и вновь собирать для очередного испытания. Инженер-конструктор вынужден пока только таким образом «обеспечивать» надежность авиационного двигателя, назвать который «высокотехнологичным изделием» язык не поворачивается.
Критериями эффективности ученого и инженера считаются уровень его цитируемости и индекс Хирша. Оказывается, в наших академических НИИ и университетах сегодня трудятся 906 самых цитируемых ученых мира, а самыми цитируемыми в мире являются ученые Института катализа СО РАН. Все было бы хорошо, если бы не одно «но»: число цитирований ученых мало влияет на вечную зависимость технологий переработки сырья от импортных катализаторов. Сколько бы ученые ни говорили о своих научных результатах, катализаторы как закупались, так и закупаются за рубежом, а вместо сорбентов для сбора мазута используются лопаты и волонтеры.
Со стороны кажется, что поставленная кем-то задача превзойти всех по количеству цитирований является бредом сумасшедшего. Видимо, этика ученого должна как-то подталкивать их не в сторону мнимого прогресса науки, а в сторону любви к человеку. Ученый, конечно же, имеет право заимствовать у другого полезные сведения, но его намерения не должны распространяться на свою культуру, быт, обычаи, привычки и поведение.
К сожалению, все оценочные показатели «рейтинга» инженера и ученого ничего не сообщают нам о их восприятии, убеждениях и мотивациях. За туманом такой информации очень трудно разглядеть и понять уровень их готовности к проектированию промышленных технологий XXI века. По одному этому примеру можно сделать вывод, что до тех пор, пока у нас вместо оценочного индекса «внедрение» будет «прилежно» соблюдаться только индекс Хирша, потенциал ученых всегда будет считаться нулевым для тех инженеров, которые должны проектировать новые промышленные технологии.
Предметом обсуждения научных тем на многочисленных конференциях, круглых столах, семинарах и симпозиумах все больше и больше становятся вопросы «цифровизации», «прогресса», «искусственного интеллекта», глобальной экономики, философии и права, но никак не безотходные методы добычи сырья и способы его безопасной переработки в продукт с минимумом затрат. В насыщенном графике научно-технических конференций на 2025 год, например, трудно найти темы, посвященные вопросам проектирования новых технологий.
Такая учебно-воспитательная работа внутри университетских школ делает будущего инженера не творцом, а «инструментом» для автоматического копирования старых технологических методов, что превращает существующие в них источники затрат, опасностей и зависимостей в проблемы будущего поколения.
Все это очень печально смотрится на фоне воодушевляющих к практической реализации «нацпроектов» и «государственных программ развития».
Кто виноват?
Во всех этих действиях явно прослеживается бессознательное, но очень согласованное («роевое») поведение различных специалистов из «институтов развития» науки, образования, здравохранения и других жизненно важных секторов жизни вокруг проектной деятельности.
В результате их согласованного бездействия инженер-проектировщик был выведен из творческого процесса проектирования промышленных технологий, а инженер-технолог на промышленном объекте, оставшись один на один с недоделанными и недодуманными производственными процессами прошлого, ограничил свои функции простой проверкой физического состояния технологической документации и постановкой штампа о годности ее использования в следующем году.
![]() К сожалению, все оценочные показатели «рейтинга» инженера и ученого ничего не сообщают нам о их восприятии, убеждениях и мотивациях. За туманом такой информации очень трудно разглядеть и понять уровень их готовности к проектированию промышленных технологий XXI века
К сожалению, все оценочные показатели «рейтинга» инженера и ученого ничего не сообщают нам о их восприятии, убеждениях и мотивациях. За туманом такой информации очень трудно разглядеть и понять уровень их готовности к проектированию промышленных технологий XXI века
Если у ученых до сих пор нет мотивации, а у инженеров-проектировщиков — простого желания содействовать освоению и использованию новых технологий, то никогда в системе «наука — образование — производство» не появится ответственный субъект, отвечающий за «материализацию» новаций и передачу результатов прикладных исследований из науки в производство.
Если современная экономика — это массовое применение технологий обученным персоналом, а сами технологии — это способы решения технических задач, найденные учеными, то для экономической независимости нужна такая единая система. И если в прошлом веке она была планируемой и управляемой, то сегодня это три разнородных и не связанных между собой рынка услуг, где никто друг друга не слушает. На одном рынке пытаются продать патенты, на втором предлагают инженеров-гуманитариев, а на третьем вовсю торгуют ресурсами страны.
В результате такого рыночного хаоса химики стали говорить, что они самые цитируемые в мире, а финансисты твердят про искусственный интеллект, который им нужен для «распознавания обращений граждан в органы государственного управления» чтобы «маршрутизировать» жалобы и рейтинговать регионы по количеству удовлетворений.
А как же быть с импортозамещением и суверенитетом? Нам же всем поставлена задача — обеспечить суверенитет государства, который зависит и определяется только активностью системы «наука — образование — производство». Значит, для этого каждому участнику системы нужна программа действий для формирования образовательного, научного и технологического суверенитета одновременно.
Что делать?
План дальнейших действий может быть понятен только после оценки не просто научного или инженерного потенциала основных исполнителей проектных работ — инженера-проектировщика и инженера-ученого, а совокупного их образа, включающего в себя их намерения, способности и возможности. Это касается и всех существующих методов оценок «эффективности» проектов, которые отражают совершенно неверные экспертные предположения о том, что если нормы и правила проектирования соблюдены сейчас, то все будет хорошо и потом.
Сегодня стоит задача восстановить все прошлые знания о науке, инженерном деле и технологиях, используя современные методы сбора, хранения и передачи информации. Требуется только одна оговорка. Если раньше технологии разрабатывались для быстрого создания больших объемов продукции, то современные технологии необходимы еще и для исключения рисков при ее производстве. Для того чтобы так проектировать технологии, ученый должен обладать не только знаниями, но и культурой сознания.
Начать надо с очищения и убеждения самих себя в верности простой исторической истине: один в поле не воин.
Убедить себя в том, что современные технологические проекты не под силу отраслевым инженерам, достаточно легко. Всем очевидно, что вместо специализированных отраслевых проектных институтов нужны проектные команды, как полки и батальоны со своими командирами, лично ответственными за результат изготовления продукта с минимальными затратами и без всяких негативных последствий для жизни новых поколений. Проще говоря, для выполнения любого проекта сегодня нужны не инженеры-конструкторы, а высокоинтеллектуальные инженерные группы в составе материаловеда, технолога, математика, физика и даже биолога, способных совместными усилиями выполнить многокритериальную оптимизацию алгоритма изготовления метаматериалов по массе, форме, размерам, прочности и стоимости.
Очиститься от материальной зависимости гораздо сложнее. Перед инженером остро стоит альтернатива: высокое качество жизни без мусора и отходов или экономический рост с благополучием отдельных личностей. Надо бы определиться: результат изобилия для нас более важен, чем чистота атмосферы, земли, улиц и рек? Готовы ли мы отказаться от тех старых технологий, которые генерируют мусор и отходы вместе с продуктами наших потребностей и желаний?
![]() Главным итогом творческой работы проектных команд будет полезность продукта и рациональность технологии его производства, что исключает при ее эксплуатации негативные последствия для окружающего пространства России и ее будущих поколений
Главным итогом творческой работы проектных команд будет полезность продукта и рациональность технологии его производства, что исключает при ее эксплуатации негативные последствия для окружающего пространства России и ее будущих поколений
Надо исходить из того факта, что смена поколений приводит к смене потребностей человека и его желаний заменить свою одежду, обувь, машины, оружие, продукты питания, что неизбежно требует изменения промышленных технологий их изготовления. Без новых технологий каждый новый продукт, изготавливаемый по старым методам, будет всегда дороже предыдущего. Просто встроить идеи и желания нового поколения людей в технологии, которые создали инженеры прошлого поколения, не получится, и поэтому каждому новому поколению нужны новые «отрасли промышленности».
На техническом языке старшего поколения это означает, что при наличии старых связей и цепочек нужно еще создавать иную логистику в ресурсных потоках (материальных, сырьевых, энергетических и информационных), регулируя их темп и объемы с учетом необходимости соблюдения их баланса в окружающем пространства и в сфере потребления. Это очень трудная задача.
Если мы готовы к ее решению, то возникает следующая проблема — методология выполнения проекта, которая требует исключения из алгоритма взаимодействия ресурсных потоков посреднических связей между элементами производственной системы и лишних затратных операций, в первую очередь связанных с перемещением сырья и энергии. Этому надо еще всех учить и всем учиться.
Первые шаги в этом направлении делают, например, инженеры новой, достаточно высокоинтеллектуальной группы «Роснано». Успехи также есть в производственной группе «Синтез-Ока» и в инжиниринговом центре ГК «Титан», ориентирующихся не только на полезные свойства и новые функции продукта, но в большей степени на рациональную технологию его создания.
Пока их проектную деятельность можно даже оценивать виртуальным показателем «эффективность». Например, если технологии прошлого века перерабатывали только 5% ресурсов, переводя 95% в отходы, то современные технологии должны перерабатывать 95% техногенных ресурсов, а только 5% хранить на полигонах до тех пор, пока ученые не дадут технологу идею, что с ними делать.
Но главным итогом творческой работы проектных команд будет полезность продукта и рациональность технологии его производства, что исключает при ее эксплуатации негативные последствия для окружающего пространства России и ее будущих поколений.
Надо с чего-то начинать, иначе будет поздно.
Темы: Техносфера