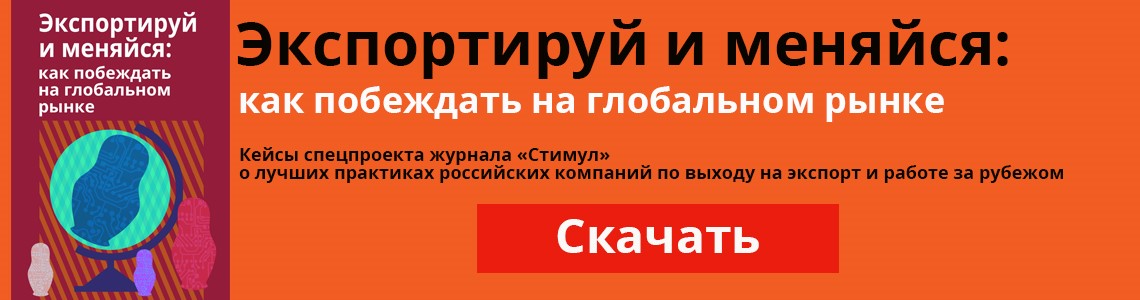Инновационные столицы провинции
Россия уже много лет пытается создать эффективную систему поддержки технологического предпринимательства. Впечатляет количество программ на федеральном уровне и объем направленных на это государственных ресурсов. Мы стали лучше понимать сложность этой задачи. Необходимо создать нишу так называемых инклюзивных (снимающих барьеры, формирующих доверие) институтов среди господствующих рентных институтов — выжимающих административную и ресурсную ренту. Речь идет о создании эксклавов — продолжении глобальной экономики знаний на нашей территории: островков инклюзивных институтов, сосуществующих с «громадьем» институтов рентных. Такое мирное сосуществование возможно, поскольку объем ресурсной ренты в инновационных эксклавах относительно невелик, а чтобы ею поживиться, нужно обладать особыми компетенциями или хотя бы научиться их имитировать. С точки зрения рентной экономики инновационные острова-эксклавы — это убежища чудаков, разговаривающих на другом языке.
В этой заметке мы попытаемся обсудить закономерности эволюции кластеров инновационного предпринимательства и систем их поддержки. Если говорить вкратце, их формирование включает в себя три стадии. Лишь на третьей достигается эффект критической массы. Россия, как и большинство стран (за немногими исключениями: США, Великобритания, Израиль, Сингапур. Тайвань, Китай), пока не смогла достичь критической массы и застряла на второй стадии.
Дело в том, что частные институты венчурного (технологического) предпринимательства, прежде всего венчурный капитал ранней и посевной стадий, всего лишь реагируют на коммерческие возможности кластеров инновационных стартапов, но не создают их. Специализированные институты, включая доверие между участниками проектов, и компетенции возникают только при определенном масштабе портфеля проектов (deal flow) и при определенном количестве технологических фирм. Если же проектных идей много, а самих проектов мало, а это типичная проблема малого потока сделок, то возникает замкнутый круг: для появления доверия, компетенций, институтов требуется поле и масштаб деятельности, а этого поля для практики как раз и нет или оно мало. Преодолевается этот замкнутый круг в три стадии.
На первой стадии создается разнообразие — фирм, предпринимателей и компетенций, а поддерживающие структуры в основном представляют государство. На второй, «предвсходовой», стадии возникают интенсивные частно-государственные институциональные эксперименты: коммерческие и частные участники процесса создают портфель институций для решения проблемы критической массы. Именно здесь возникает поле, или масштаб новых практик и компетенций. На третьей («всходовой») стадии достигается критическая масса и возникает полноценная индустрия частного венчурного капитала с сегментами посевного и раннестадийного финансирования и всей сопутствующей научно-технологической инфраструктурой.
Рассмотрим пример Израиля. Развитие сферы венчурных инвестиций и технологического предпринимательства Израиля прошло через три стадии: создание базовых условий (с 1949-го до конца 1970-х годов), «предвсходовая» стадия (начало 1980-х — 1992 год) и «всходовая» стадия (1993–2000) (См. работы Мориса Тойбала и Гиля Авнимелеха, а также Дана Брезнитца).
Знаменитая программа Yosma — фонд венчурных фондов с акцентом на раннюю стадию, появившаяся в1992 году, вовсе не создала, вопреки расхожему мнению, знаменитый израильский венчурный и технологический бум, а ускорила создание эффекта критической массы путем консолидации многих элементов уже созданной технологической инфраструктуры.
Непонимание нелинейности этого процесса приводит к нереалистичным ожиданиям и следующему за ним разочарованию: нет страны со средним уровнем дохода, которая не создала бы своего аналога Фонда фондов (в России это РВК), не достигая при этом этапа глобально ориентированных технологических кластеров.
Важно подчеркнуть: все три стадии описанного выше эволюционного процесса исключительно экспериментальны. Частные предприниматели и креативные личности, способные к риску в государственном секторе, совместно создают новые институты методом проб и ошибок. Если ошибок и неудач нет — значит, вы не экспериментируйте, а повторяете чужие шаблоны. Особенно это относится ко второй, «предвсходовой» стадии. В Израиле без обескураживающей неудачи Inbal — первой попытки консолидации критической массы, не было бы и успеха Yosma.
Выскажу гипотезу: Россия проживала стадии эволюции инновационного предпринимательства с лагом примерно в двадцать лет от израильского «графика». Иными словами, в 2012–2014 годах она была в конце второго этапа — на пороге возникновения критической массы глобально ориентированных компетенций. Но партия игры глобальных инновационных кластеров оказалось недоигранной. Рассуждая в сослагательном наклонении, которого, как известно, история не признает, что могло бы возникнуть, если бы было время и терпение достичь эффекта критической массы? Как в Израиле и в Индии, возникла бы двойственная экономика: посреди моря плохих институтов, а в России это очень устойчивые и эффективные институты, которые отлично выжимают ренту, появился бы значительный эксклав — продолжение глобальной экономики знаний среди наших рентных институтов. Даже в Израиле и Индии, примеры которых у всех на слуху, экономическое значение этих глобальных эксклавов невелико: за блестящим фасадом скрывается неэффективная экономика. По выражению покойного академика Юрия Васильевича Яременко, который еще в 1970-е годы первым в мировой литературе обратил внимание на внутреннюю неоднородность, которую я описываю, подобные эксклавы — «это вазы на камине: красиво, но не греет».
Действительно не очень греет в смысле агрегированных экономических показателей. В Индии, например, совокупный вклад Бангалора и других подобных кластеров оценивается лишь в 8% ВНП. Но ситуация принципиально меняется, если посмотреть на нее с точки зрения политэкономии — консенсуса элит по поводу образа будущего. Масштаб глобального эксклава таков, что его невозможно игнорировать ни элите, ни населению: страна наглядно беременна двумя будущими: привычным, отжимающим ренту, и новым — открытым и глобальным. Причем это новое будущее существует не в презентациях и планах небольшой секты технорелигии. Оно видно и очевидно всем: для населения оно создает новые ролевые модели поведения («ботаники» — успешные, обожаемые и богатые люди), а для элиты — возможности для инвестирования и социального лифта. Элиты не могут игнорировать глобальный эксклав, потому что иначе они упустят возможности и останутся в прошлом: они упустят будущее. Взрывной рост третьего этапа (после достижения критической массы) самоподдерживается еще и потому, что к нему, как к магниту, притягиваются традиционные игроки рентной экономики.
В России этого не произошло. Однако, вслед за академиком Яременко, я — угрюмый оптимист, то есть оптимист, умеющий находить конструктивные альтернативы в неблагоприятном контексте (который он хорошо понимает, отсюда угрюмость).
Россия закрепилась на втором, «предвсходовом», этапе развития инноваций надолго. Это не так уж и плохо. Во-первых, мы в неплохой компании. На этом же этапе застряла, например, и страна образцовых инклюзивных институтов — Южная Корея, где критическую массу мешают сформировать слишком успешные и динамичные чеболи, всасывающие в себя, как пылесосы, лучшие таланты страны. Да и экономические самоубийства случаются и в странах с инклюзивными институтами: его, например, совершила Чили в 2008–2009 годах. Успешный кластер разведения лососевых был готов стать первым в мире, опережая Норвегию, но подвергся, как и всякая монокультура, болезни рыб. Многие понимали приближение катастрофы, но частная инициатива нужных инвестиций не сделала, в результате кластер, хотя и был отброшен на десять лет назад, все-таки выжил.
Во-вторых, и это более важно, в России сохраняется возможность достижения «критической массы», но уже на локальном уровне, вдалеке от Москвы, в «столицах провинции» — в таких городах, как Томск, Новосибирск, Казань или Нижний Новгород.
Я считаю, что целесообразен был бы эксперимент, своего рода аналог программы опорных университетов «5–100», но для инновационных кластеров. Например, можно взять пять региональных центров с сильными университетами (скажем, четыре перечисленных и Санкт-Петербург) и добиваться, чтобы один или два из них вошли в число глобальных региональных игроков в ближайшие десять-пятнадцать лет. Детали такой программы — назовем ее «Инновационные столицы провинции» — заведомо нетривиальны, они выходят за пределы настоящей заметки. Принципиально важно, чтобы объем прямой государственной поддержки в адрес неформальной группы лидеров — драйверов программы на местах стремился к нулю, иначе она превратится в обычную рентную группировку.
О том, как формируется подобная группа лидеров на региональном уровне и как она может способствовать формированию «критической массы», — в следующей заметке.
Мнения авторов, опубликованные в этой рубрике, могут не совпадать с точкой зрения редакции.