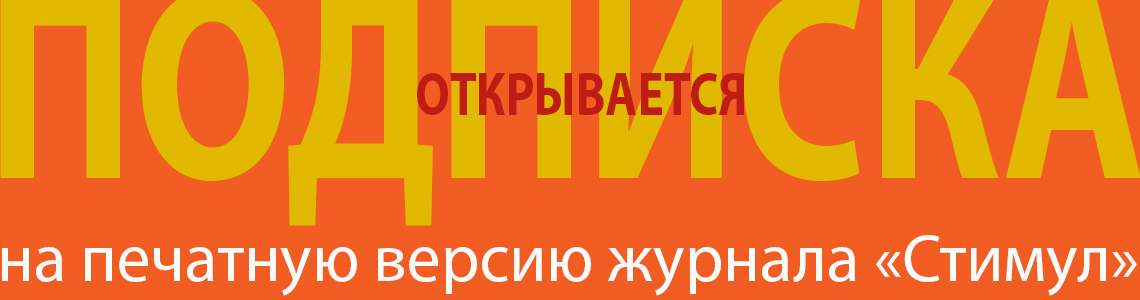Инновационный лифт в России пока не работает

Один из основателей группы компаний «ИнЭнерджи» Алексей Кашин считает, что в России есть большие возможности для развития рынка инноваций. Но из-за его герметичности и потребительского отношения к проектам процесс роста высокотехнологических компаний сильно тормозится и рискует лишиться актуальности. О патриотизме в инновационной среде, о существующих барьерах и о возможных сценариях выбора для инноватора г-н Кашин рассказывает в специальном интервью журналу «Стимул» в рамках проекта «Технологическая волна в России», реализуемого совместно с Центром социального проектирования «Платформа».
— Как бы вы охарактеризовали нынешнюю инновационную среду в России?
— На мой взгляд, российский венчурный рынок и рынок инноваций очень малого масштаба, даже микроскопический. Мало проектов, мало денег, мало всего. Во-вторых, в силу геополитических вещей он довольно герметичный. Причем степень герметичности, к сожалению, продолжает увеличиваться. Третье — у нас рассредоточенная государственная поддержка. Инструментов много, но они в технологической плоскости слабо скоординированы. Это означает, что у нас на ранней стадии финансируется одно, следующие этапы идут в отрыве от предыдущих, затем — производство, позиционирование на рынке и так далее. За «костюм» никто не отвечает, остались куски советской структуры, а новой системы не возникло. Следующий момент: в нашем менталитете нет права на ошибку: неудачное предпринимательство часто рассматривается как мошенничество даже в высокотехнологических сферах. Отсюда боязнь финансирования у институтов развития и слабая поддержка инновационных проектов. Последнее в моем «проблемном» списке — короткий горизонт планирования и слабая предпринимательская культура.
— Работает ли инновационный лифт или с ним есть проблемы?
— Мы пользовались практически всеми инструментами. Мой ответ: нет, не работает. К проектам потребительское отношение. Корпорации получают от них что-то на ранней стадии, но уже для следующих стадий развития внешние проекты большого интереса не представляют, поэтому не могут расти дальше. За примером далеко ходить не надо. В рамках довольно тяжелого и большого проекта мы полгода «работали» с одним институтом развития. Готовили документы, прошли множество экспертиз — все были положительные, а в итоге получили ответ: «Ваш проект не соответствует нашему мандату».
![]() В нашем менталитете нет права на ошибку: неудачное предпринимательство часто рассматривается как мошенничество даже в высокотехнологических сферах. Отсюда боязнь финансирования у институтов развития и слабая поддержка инновационных проектов
В нашем менталитете нет права на ошибку: неудачное предпринимательство часто рассматривается как мошенничество даже в высокотехнологических сферах. Отсюда боязнь финансирования у институтов развития и слабая поддержка инновационных проектов
— Из-за чего сложилось такое потребительское отношение к стартапам и как эту ситуацию можно изменить?
— У институтов развития нестабильный мандат, экосистема просто не сонастраивается, не успевает; части мимикрируют быстрее, чем из них возникает целое. Должен быть системный подход с соответствующей ставкой. Например, в технологической плоскости это должно координироваться от рынка, а дальше надо смотреть, откуда что можно взять из науки. Я сейчас банальные вещи говорю, тем не менее у нас своя специфика: на ранней стадии вроде бы много идей, фундаменталка еще местами сильная, но команд мало.
У меня получилась какая-то черная картинка… На самом деле есть отдельные примеры, где эта лестница инноваций более или менее работает. Например, технопарки, имеющие удачный опыт реализации и продажи высокотехнологических бизнесов: «ТехноСпарк», «Сколково», вот есть мы — но это всё исключения из правил. Из работающих инструментов могу назвать Фонд Бортника и НТИ, но совокупный объем поддержки проектов очень мал.
— Есть ли проблемы внутри самих стартапов?
— Меня часто просят выступить для молодой аудитории. Я говорю: а как можно воодушевить эту молодежь? Что сказать студентам последних курсов, начинающим предпринимателям? Если я на самом деле расскажу про тот уровень рисков, которые приходится на себя брать, и про весь путь, который пришлось пройти, то я их вряд ли замотивирую. С другой стороны, есть выжившие проекты, которые нужно поддерживать и которые должны формировать вокруг себя такую поддерживающую среду. Все элементы есть, не хватает стратегии и перехода от декларации к реальной деятельности. Где-то горизонта не хватает, где-то широты взгляда. Где-то просто правильных людей на правильных местах. Машинка крутится, топливо расходуется, все эти шестеренки крутятся, но только на этих валах, на которых приводные ремни должны быть надеты, часто ничего нет, поэтому и результата мало. Кроме того, банально мало денег, малый объем поддержки, который рассредоточен по всем фронтам. Получается всем понемножку — никто не умер, но и прорыва нет.
![]() Простой пример сценария выбора: пришел человек в институт развития на позицию, отвечающую за деньги. Возможность первая — поддержать какие-то проекты и лично взять на себя часть рисков, второй вариант — просто ничего не делать и два-три года просидеть на хорошей зарплате
Простой пример сценария выбора: пришел человек в институт развития на позицию, отвечающую за деньги. Возможность первая — поддержать какие-то проекты и лично взять на себя часть рисков, второй вариант — просто ничего не делать и два-три года просидеть на хорошей зарплате
— Денег мало или они все-таки есть, но их не дают? И как их можно получить?
— Есть единичные примеры, когда кто-то успешно раскассировал фонд, но в целом все крупные корпоративные и венчурные фонды никуда не проинвестированы. Простой пример сценария выбора: пришел человек в институт развития на позицию, отвечающую за деньги. Возможность первая — поддержать какие-то проекты и лично взять на себя часть рисков, второй вариант — просто ничего не делать и два-три года просидеть на хорошей зарплате. В последнем случае и управленцу комфортно, и инвесторы довольны, что деньги зря не потратил.
— Этот сценарий выбора можно изменить?
— Если мы хотим инновационного прорыва, в этой области надо концентрировать превосходящее количество ресурсов по сравнению с другими, плюс контекст. С технологиями нельзя одинаково: для условных нефтяников или стартапов (где еще даже область не сформировалась) должны быть разные подходы в инвестировании, их нельзя сравнивать. Сейчас наблюдается инновационная дискриминация, когда крупные игроки зачастую компенсируют свои текущие затраты на мелкие составляющие за счет государственных средств, а новых игроков в этой области появляется мало. В этом же кто-то должен разбираться и взять на себя эту ответственность. Сейчас в инновационной сфере наблюдается кризис доверия, поэтому нам необходимо работать над изменением социальной культуры. В общем, надо прожектором светить, а мы спичку зажигаем.
![]() Лично у меня есть свои мотивации. Первая, алогичная: я русский, живу и работаю в России, хочу помочь своей стране, Родину люблю. Вторая — прагматичная, ее лучше объяснить на примере: мы работаем в высокотехнологичных областях, где стоимость доведения продукта с низкого до более высокого уровня гораздо ниже по сравнению с другими странами
Лично у меня есть свои мотивации. Первая, алогичная: я русский, живу и работаю в России, хочу помочь своей стране, Родину люблю. Вторая — прагматичная, ее лучше объяснить на примере: мы работаем в высокотехнологичных областях, где стоимость доведения продукта с низкого до более высокого уровня гораздо ниже по сравнению с другими странами
— «ИнЭнерджи» позиционирует себя как патриотично настроенная инновационная компания. Что вами движет, почему вы остаетесь на российском рынке?
— Чтобы уехать, ума много не надо, а поддержать инновационный импульс или даже инициировать его здесь — это задача интересная. Лично у меня есть свои мотивации. Первая, алогичная: я русский, живу и работаю в России, хочу помочь своей стране, Родину люблю. Вторая — прагматичная, ее лучше объяснить на примере: мы работаем в высокотехнологичных областях, где стоимость доведения продукта с низкого до более высокого уровня гораздо ниже по сравнению с другими странами. Это большое конкурентное преимущество. Например, выращивать технологичный стартап вместе с технологией в электрохимии на российском рынке будет в десять–двенадцать раз дешевле, чем в среде MIT. Но есть барьеры, которые эту асимметрию реализовать в рыночный успех пока не дают. Моя гипотеза: нужно просто стать большим игроком, то есть системно, инновационно вырасти, и тогда можно влиять на правила игры.
— О каких барьерах вы говорите?
— Все, о чем я говорил ранее: высокая административная нагрузка, бессистемность и отсутствие технологичной связности, боязнь институтов развития, ответственности и кризис доверия. Эти барьеры также ограничивают поток зарубежных инвесторов.
![]() У нас есть шанс стать глобальной компанией и даже лидером мирового рынка в своей области. Но у меня есть ощущение, что в России сейчас ситуация закрывающегося окна возможностей. То есть придет следующий технологический уклад, и опять у нас останется только импортозамещение
У нас есть шанс стать глобальной компанией и даже лидером мирового рынка в своей области. Но у меня есть ощущение, что в России сейчас ситуация закрывающегося окна возможностей. То есть придет следующий технологический уклад, и опять у нас останется только импортозамещение
— Как выстроить гармонию между разными инновационными звеньями, обеспечить стратегический фокус?
— Как говорил Рузвельт: «Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где находишься. Сейчас». Поэтому, отвечая на вопрос, что нужно делать с экосистемой, можно сказать: «Делайте хоть что-нибудь». Во-первых, должна появиться во всей этой экосистеме критическая масса людей-«делателей», которые в одну — правильную — сторону думают, понимают, что делают; они компетентны, ответственны, не токсичны, не боятся рисковать и работают на результат. И такие люди уже где-то есть, просто нужно выработать критерии для совершения прорыва. Во-вторых, необходима перезагрузка государства, которое в первую очередь реанимирует доверие, во-вторых, перезагрузит систему снизу. Такие попытки есть, должно расти их качество: системно нужно работать, доводить до результата, анализировать и выстраивать культуру, которая работала бы и становилась самовоспроизводящейся.
— Какой сейчас в целом тренд в инновационном развитии России — позитивный или негативный?
— Я считаю, что для нас в целом тренд позитивный, и мы работаем над тем, чтобы развивать успех. У нас есть шанс стать глобальной компанией и даже лидером мирового рынка в своей области. Но у меня есть ощущение, что в России сейчас ситуация закрывающегося окна возможностей. То есть придет следующий технологический уклад, и опять у нас останется только импортозамещение. Это вопрос темпов и борьбы за те ресурсы, которые актуальны в экономике знаний, а мы до сих пор находимся в сырьевой модели. У нас умные люди, большой исторический опыт, и мы не раз доказывали себе и миру, что умеем решать сложные, масштабные задачи. Но мы также и спать умеем, спотыкаться на ровном месте. Большой успех складывается из многих мелких правильных действий — необходимо сформировать культуру этих действий и обеспечить поддержкой тех, кто действует и рискует.
Темы: Инновации