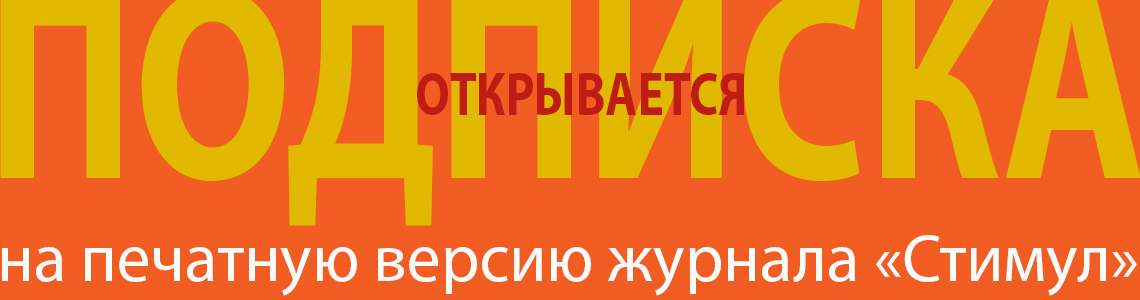Куда везут «Буран»?

Программа «Энергия — Буран» осуществлялась на протяжении двенадцати лет — с 1976 по 1988 год — по инициативе Дмитрия Устинова, одного из сталинских наркомов, министра обороны СССР в 1976‒1984 годах (хотя официальные рамки программы шире и охватывают почти два десятилетия — с 1974 по 1993 год, когда программа была приостановлена). Специально для ее реализации была с нуля создана головная организация — научно-производственное объединение «Молния». За это время было построено три летных экземпляра «Бурана».
Первый из летных экземпляров совершил единственный космический полет в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года. Этот корабль погиб под обломками крыши монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур 12 мая 2002 года. Второй экземпляр хранился на Байконуре, на 110-й площадке; третий, недостроенный, долгое время оставался на территории Тушинского машиностроительного завода. Второй и третий «Бураны» были предназначены для пилотируемых полетов.
Были также изготовлены еще несколько атмосферных аналогов «Бурана». Первый из них испытал в 1985 году летчик-космонавт Игорь Волк.
В информационном пространстве программа «Энергия — Буран» подается с неизменными комментариями высоких чиновников о невозможности ее возрождения. Эксперты оценивают масштаб программы «Энергия — Буран» в полтора миллиона специалистов, так или иначе задействованных в ее реализации, а критики считают, что она разорила советскую экономику. Ракета-носитель «Энергия», поднимавшая «Буран» в космос, задумана как многоразовая и была частью и лунной, и марсианской, и юпитерианской отечественных космических программ. Интересно и то, что часть конструкторской документации программы «Энергия — Буран» до сих пор имеет гриф «секретно».
Какой из двух?
Во второй половине июля в социальных сетях, в частности в телеграм-канале infantmilitario, в паблике во «ВКонтакте» «История — тайны и загадки», начали распространять информацию о том, что по автомобильным и водным артериям страны перевозят корпус «Бурана». Авторы постов в соцсетях прямо указывали на второй летный экземпляр из Казахстана.
Попытка вернуть «Буран» из Казахстана в Россию активно обсуждалась в 2021 году, когда выяснилось, что в ангар с космическим аппаратом пробрались неизвестные и расписали космический челнок своими граффити. Возглавлявший тогда «Роскосмос» Дмитрий Рогозин возложил ответственность за плачевное состояние «Бурана» на казахстанских коллег, на Байконур приезжали представители НПО «Молния» для осмотра корабля, а нынешний владелец второго «Бурана» гендиректор АО «РКК Байконур» Даурен Муса выступил против планов возвращения летного образца в Россию, сославшись на планы его музеефикации на месте.
Какая-либо официальная информация о том, что в судьбе этого аппарата есть подвижки, отсутствует.
«Это был троллинг», — прокомментировал «Стимулу» «казахстанскую версию» Алексей Николаев, руководитель фонда «Наше небо», авиатор, авиаинженер и эксперт по истории программы «Энергия — Буран» и многих других отечественных авиационных и космических программ. По его мнению, речь однозначно идет о третьем летном образце «Бурана», а «информационный вброс про казахстанский след» был нацелен на то, чтобы «разговорить» Вадима Задорожного, (коллекционера и руководителя Музея техники Вадима Задорожного), которому, по сведениям нашего собеседника, последние два года принадлежал третий летный образец «Бурана».
![]() Один из летных экземпляров совершил единственный космический полет в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года. Этот корабль погиб под обломками крыши монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур 12 мая 2002 года
Один из летных экземпляров совершил единственный космический полет в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года. Этот корабль погиб под обломками крыши монтажно-испытательного корпуса на космодроме Байконур 12 мая 2002 года
Виталий Лебедев, историк авиации и космонавтики, председатель секции истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН, высказал в беседе со «Стимулом» сомнение в том, что «Буран» именно принадлежал Музею техники Вадима Задорожного. По его мнению, возможен и другой вариант: «Хранение аппарата на его базе не значит, что это ему принадлежит. Например, самолеты Яковлева, которые у него хранятся, не его, а КБ Яковлева, и находятся у Задорожного, насколько я знаю, по договору ответственного хранения», — отметил эксперт.
Однако авторы письма жителей города Жуковского Вадиму Задорожному, которое имеется в распоряжении редакции, указывают на него именно как на владельца «Бурана»: «По имеющейся информации осенью 2021 года Вы стали обладателем космического аппарата “Буран” (изделие 2.01), который с 2011 года принадлежал АО “Авиасалон” и находился на территории АО “ЛИИ им. М. М. Громова” в Жуковском. В настоящее время готовится транспортировка корабля с территории ЛИИ», — говорится в этом написанном два года назад письме, целью которого было договориться с новым владельцем аппарата не увозить его из Жуковского.
В поисках информации о том, что за «Буран» едет по стране, «Стимул» столкнулся с фейковой историей про «Байкал», как, по мнению ряда экспертов, называли не летавший «Буран». «Никакого “Байкала” никогда не существовало по документам, — говорит Алексей Николаев. — “Байкал” — это был макет, который возили в Казахстане в рамках контрразведывательной операции КГБ СССР по введению в заблуждение американских агентов и спутников. Есть кинохроника, как везут макет на платформе, и там написано: “Байкал”.
Алексей Николаев заметил, что первоначально и ракета-носитель называлась «Буран». Виталий Лебедев уточнил, что название «Буран» относилось ко всей программе: «Весь проект многоразовой космической системы (МКС) назывался “Буран”». «По документам эта программа называлась “Буран” — и ракета называлась “Буран”, и “птица” называлась “Буран”, — говорит Алексей Николаев. — Но чуть позже разработчик ракеты-носителя академик Валентин Глушко решил, что ракете нужно дать название ее головного разработчика — РКК “Энергия”».
Лебединая песня советской космонавтики
Алексей Николаев обратил внимание на тот факт, что «на базе “Бурана” и “Энергии” уже готовился проект многоразовой ракеты, задолго до Илона Маска», причем ракеты проектировались «более интересно — было подобрано все для широт, в которых находится Байконур». Со ссылкой на младшего сына академика Глушко Александра он рассказал о том, что после двух успешных запусков ракеты «Энергия» в 1987 году и в 1988 году, с «Бураном», Валентин Глушко сказал: «Теперь вы должны похоронить мой прах на Луне. Я вам создал ракету, которая может выводить 25 тонн на орбиту Луны».
Алексей Николаев полагает, что с приостановкой программы «Энергия — Буран» «под откос пошли отечественные лунная и марсианская программы». «В 1989 году я был школьником, но ходил в астрономический кружок и общался с людьми, которые были связаны с космической программой, и мне в руки попала самиздатовская брошюра “Советская космическая программа”. Там и в журнале “Знание — сила” была расписана концепция советской космической программы. Универсальная транспортная система “Энергия” должна была выводить полезную нагрузку не только к орбите Луны, но и к Марсу и Юпитеру, там была система орбитальных станций массой 85 тонн без участия человека — в эти проекты был тогда еще заложен искусственный интеллект. В системе управления этой группировкой человека не было, причем она закладывалась с советским программно-аппаратным уровнем». Проект возвращаемой первой ступени ракеты был выполнен еще в 1986 году.
Современным отголоском этой разработки является выполняемый в наши дни проект «Крыло СВ» — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Проект подготовлен и защищен в 2019 году в Фонде перспективных исследований. Головным предприятием выступило АО «ЭМЗ имени В. М. Мясищева». «Возвращаемая ступень в проекте “Крыло СВ” рассчитана на 30 применений», — говорит Алексей Николаев.
У «Бурана» есть и еще одно современное прямое продолжение — «Клипер». Это многоразовый пилотируемый космический корабль, который был спроектирован в РКК «Энергия» в новом тысячелетии как развитие или же продолжение программы «Энергия — Буран». Корабль не полетел в космос в силу ряда причин, но конструкторские и опытно-конструкторские работы позволили новому поколению отечественных конструкторов и инженеров приложить руки и головы к передовому проекту, основанному на опыте предшествующих поколений.
«“Клипер” запатентован. Это наше российское достижение, это продолжение работ по “Бурану”. Хотя он не полетел, объем выполненных работ был на высоком уровне, потенциал, который был накоплен с 1976 по 1989 год в программе “Энергия — Буран”, пытались применить в “Клипере”, — говорит Алексей Николаев. — Если мы посмотрим в исторической перспективе, то увидим, что до “Бурана” была “Спираль” (“Спираль” — это советская авиационно-космическая система. Она состояла из орбитального самолета, который по технологии “воздушный старт” выводился в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту. Проект разрабатывался в 1960-е годы, его руководителем был Глеб Лозино-Лозинский, впоследствии возглавивший НПО “Молния”, специально созданное для работ по “Бурану”. — “Стимул”), а после “Бурана” — “Клипер”, и есть признаки того, что по этому пути мы будем идти и дальше. С приостановкой программы “Энергия — Буран” движение инженерной и конструкторской мысли не остановилось».
«Программа “Энергия — Буран” — лебединая песня советской космонавтики. При ее реализации не только были использованы самые передовые на тот момент технологии, но и был заложен фундамент на будущее. Причем на очень отдаленное будущее: аэрокосмические системы еще будут востребованы при исследовании планет. Да и на околоземной орбите их потенциал еще далеко не исчерпан», — прокомментировал «Стимулу» значимость программы «Энергия — Буран» историк космонавтики Александр Железняков.
Рано рассекречивать
Алексей Николаев отметил, что на некоторых разделах программы гриф секретности сохраняется и сегодня. По его мнению, это прямое свидетельство того, что «технологический задел позволяет вернуться к разработкам этой программы и частично воплотить их в будущем».
![]() «Третий летный образец проектировали для пилотируемого полета. Там были заложены системы жизнеобеспечения космонавтов, была система аварийного спасения космонавтов — было изменено практически все под пребывание человека на борту»
«Третий летный образец проектировали для пилотируемого полета. Там были заложены системы жизнеобеспечения космонавтов, была система аварийного спасения космонавтов — было изменено практически все под пребывание человека на борту»
«Я беседовал с представителем комиссии, которая занималась рассекречиванием материалов по программе “Энергия — Буран”, мы с ним посмотрели некоторые материалы по линии Министерства авиационной промышленности, и он сказал, что многие вещи не надо показывать, не надо их рассекречивать, и отстаивал гриф на многих материалах по “Бурану”. И я считаю, что это правильно, потому что, если мы не сможем это реализовать, у следующего поколения наших инженеров в другое время появится такой шанс, — уверен Алексей Николаев. — Понятно, что основным заказчиком программы были военные, но там была еще и гражданская история. Она была связана с тем, что можно было построить орбитальные заводы по производству медицинских препаратов, которые хорошо производятся в условиях невесомости, в полностью автоматическом режиме, без участия человека, с искусственным интеллектом. Туда могли бы прибывать временные экспедиции. Об этом даже Илон Маск не мечтал! Это была наша концепция, выстраданная несколькими поколениями специалистов, которые эволюционировали вместе с нашей космической программой. Роль “Бурана” была бы в доставке на орбиту компонентов и возвращении готовой упакованной продукции. Грузовик, который может привезти с орбиты 20 тонн».
По мнению Александра Железнякова, «многие идеи и принятые тогда технические решения использовать обязательно надо». «Но для начала необходимо четко сформулировать нашу программу освоения космоса. Не концепцию, а именно программу. Только тогда станет ясно, стоит ли возрождать “Энергию — Буран” в каком-то виде», — отметил он.
Цена вопроса
Александр Железняков не разделяет мнение, что большие расходы на оборону и космос, в частности на программу «Энергия — Буран», подкосили советскую экономику и стали прямыми или косвенными причинами слома государственной машины СССР. «Конечно, программа была очень дорогой. Точно подсчитать, сколько на нее было затрачено, очень трудно, так как это были не только прямые расходы на создание космической техники, но и сопутствующие траты, связанные с необходимостью разработки новых материалов, строительством наземной инфраструктуры, подготовки кадров и многого другого», — отметил он.
Инфраструктурный задел был и в самом деле впечатляющим. Для приема «Бурана» были построены аэропорт Юбилейный на Байконуре с взлетно-посадочной полосой особого качества, по которой можно было провезти на капоте стакан воды, не расплескав ни капли, и еще четыре специальные взлетно-посадочные полосы — в Крыму, в Приморье, в одной из стран Латинской Америки и в Ливии.
Для развития программы КБ Антонова спроектировало самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», единственный экземпляр которого был построен силами Ташкентского и Ульяновского авиазаводов и сгорел в 2022 году под Киевом. Глеб Лозино-Лозинский, доктор технических наук, генеральный конструктор НПО «Молния», заложил повышенные параметры при строительстве Ан-225 «Мрия» под другой аппарат, который должен был идти вслед за «Бураном». «Конструктор Виктор Толмачев спроектировал “Мрию” из агрегатов “Руслана” (Ан-124. — “Стимул”). Только крыло было другое и хвостовое оперение переделали, а так там была большая степень унификации с “Русланом”. Это советский инженерный почерк: зачем делать что-то с нуля, если есть возможность унификации, что упрощает обслуживание и ремонт техники», — говорит наш собеседник.
Правда, «Мрия» не доставляла «Буран» к месту старта, не успела: ее достроили в 1989 году, а первый старт был в 1988-м. Эту роль выполнили самолеты «Атлант» В. М. Мясищева, совершившие около 300 рейсов из Подмосковья на Байконур перед космическим стартом «Бурана».
Впечатляют не только масштабы затраченных средств, но и то, что колоссальные технологические и инфраструктурные заделы не используются по назначению в полной мере, а значит, инфраструктура и уникальные аппараты приходят в негодность, стареют и разрушаются.
Резюмируя тему влияния масштабных космических программ на устойчивость отечественной экономики, Александр Железняков сказал: «Советскую экономику пошатнула не “Энергия” с “Бураном”, а отсутствие эффективной модели управления самой экономикой. Винить только космонавтику в наших проблемах глупо». При этом он признает, что «многих лишних трат на освоение космоса можно было избежать».

История третьего «Бурана»
Интересно, что сейчас ни один из двух сохранившихся летных экземпляров «Бурана» не имеет по документам никакого отношения к «Роскосмосу», не находится на его балансе. Третий «Буран» финансировался из бюджета Министерства обороны, но так как достроен он не был, то и на баланс министерства не принят, по факту им владеют частные лица. Казахстанский «Буран» тоже находится во владении частных лиц из Казахстана. Поэтому сохранность и реставрация этих образцов наших технологических достижений зависит не от государства, а от непосредственных владельцев.
«Все три летных экземпляра “Бурана” построены на Тушинском машиностроительном заводе (предприятие работало с 1932 по 2015 год. — “Стимул”). В момент остановки программы “Энергия — Буран” третий летный экземпляр еще строился. Он был готов примерно на 40 процентов, — рассказал Алексей Николаев. — На Тушинском машиностроительном заводе должны были построить пять “птиц”, но в итоге построили три, потому что каждый год начиная с 1985-го финансирование “Бурана” урезáли. Главным движителем программы был Дмитрий Федорович Устинов. Его не стало, и все начали играть в свою игру», — отмечает эксперт.
Атмосферные аналоги «Бурана» строил Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева в Жуковском. Эти «Бураны» очень существенно отличались от тех, которые предназначались для полетов в космос. Были большие отличия и первого летавшего «Бурана» от второго и третьего, предназначенных для пилотируемых полетов. «Были разные компоновочные решения. Когда был первый полет, решили снять много того, что придумали советские инженеры, потому что надо было провести приемо-сдаточные испытания, чтобы аппарат слетал, и всё», — пояснил Николаев.
«Третий летный образец проектировали для пилотируемого полета. Там были заложены системы жизнеобеспечения космонавтов, была другая система аварийного спасения космонавтов — было изменено практически все под пребывание человека на борту. И главное, в проект закладывались воздушно-реактивные двигатели, (воздушно-реактивный двигатель АЛ-31 без форсажных камер разрабатывался в "ОКБ им.Архипа Люльки" в Москве и серийно строился для самолетов Су-27. Там же делали и вспомогательную силовую установку для ракеты "Энергия" и для корабля "Буран". В 1990-е годы один из двигателей АЛ-31 передали в качестве учебного пособия в Московский авиационный институт и на нем многие годы учились студенты и аспиранты вуза - "Стимул"), — рассказал Алексей Николаев. — Эти двигатели должны были находиться в герметичных контейнерах, на высоте 17 километров открывались бы створки, и “Буран” запускал бы свои собственные двигатели. После прохождения плазмы он мог спокойно лететь на своих воздушно-реактивных двигателях не как планер, а как пассажирский самолет, примерно в таком же диапазоне скоростей, и таким образом он мог сделать, например, горизонтальный маневр куда надо в рамках оперативной задачи». Летавший «Буран» таких двигателей не имел.
![]() «Мрия» не доставляла «Буран» к месту старта, не успела: ее достроили в 1989 году, а первый старт был в 1988-м. Эту роль выполнили самолеты «Атлант» В. М. Мясищева, совершив около 300 рейсов из Подмосковья на Байконур
«Мрия» не доставляла «Буран» к месту старта, не успела: ее достроили в 1989 году, а первый старт был в 1988-м. Эту роль выполнили самолеты «Атлант» В. М. Мясищева, совершив около 300 рейсов из Подмосковья на Байконур
Виталий Лебедев, комментируя тему собственных двигателей на «Буране», отметил, что, по его сведениям, «на этапе решения каким быть нашему “шаттлу”, рассматривался и вариант с воздушно-реактивными двигателями, но решили не перегружать систему, и они не пошли». «Это был поисковый вариант», — полагает эксперт.
Третий, недостроенный «Буран» до 2011 года стоял на задворках Тушинского машиностроительного завода. Затем его перевезли в Жуковский, планировали выставлять на авиасалоне МАКС и даже один раз действительно экспонировали, обклеив одну сторону корабля имитацией плитки. Кстати, почетным президентом авиасалона является летчик-испытатель Магомед Толбоев, который сопровождал на самолете МиГ-25 первый летный «Буран» в его космическом полете на доступном для МиГа отрезке пути. «В качестве обременения за право выставлять “Буран” авиасалон должен был его отреставрировать, нужно было вложить около 150 миллионов рублей, что для МАКСа — экономически выгодного мероприятия, хорошо раскрученного, известного бренда новой России — было нетрудно, — говорит Алексей Николаев. — Но реставрация не была осуществлена».
Затем была еще одна попытка отреставрировать «Буран» — и тоже неудавшаяся — со стороны одной из российских корпораций. В итоге, как рассказал Алексей Николаев, два года назад третий «Буран» приобрел Музей техники Вадима Задорожного. Жители Жуковского просили нового владельца легендарного космического челнока не увозить его из Жуковского и создать здесь филиал музея. Изложенная в письме просьба об этом к Вадиму Задорожному выполнена не была, и «Буран» отправился на базу хранения Музея техники Вадима Задорожного в Калужскую область.
И здесь был проект создания особой экспозиции, за который ратовали власти региона — родины Константина Циолковского, где есть Музей Циолковского и Музей космонавтики — один из лучших в стране. «Что-то не сложилось, и путешествие “Бурана” продолжилось», — говорит Алексей Николаев.
Он пояснил, с чем могут быть связаны трудности с реставрацией «Бурана», кто бы за нее ни брался. Для того чтобы вести такие работы, нужен специальный допуск, так как частично с программы “Энергия — Буран” не снят гриф секретности. Идеальным вариантом реставрации, по мнению нашего собеседника, могло бы стать привлечение к этим работам студентов МАИ, так как они обладают и необходимым уровнем технической компетентности, и требуемыми допусками, к тому же участие в таком проекте принесло бы им практическую пользу.
В поисках ответа на вопрос, куда везут «Буран», три независимые друг от друга группы экспертов выдвинули версию, что везут его из Калужской области в Свердловскую, с базы хранения Музея техники Вадима Задорожного на Урал, в Верхнюю Пышму, где находится Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании.
Между тем ни в исходной точке маршрута — Музее техники Вадима Задорожного, ни в конечной — Музейном комплексе УГМК, ни в компании «Подольск-Автотранс», специализирующейся на перевозке негабаритных грузов, логотип которой присутствовал на одном из фото движения «Бурана» по воде, «Стимулу» не подтвердили официально версию экспертов. Поэтому выводы экспертов остаются пока рабочей гипотезой.
Подробнее о первом полёте Бурана можно прочитать здесь
Темы: Наука и технологии