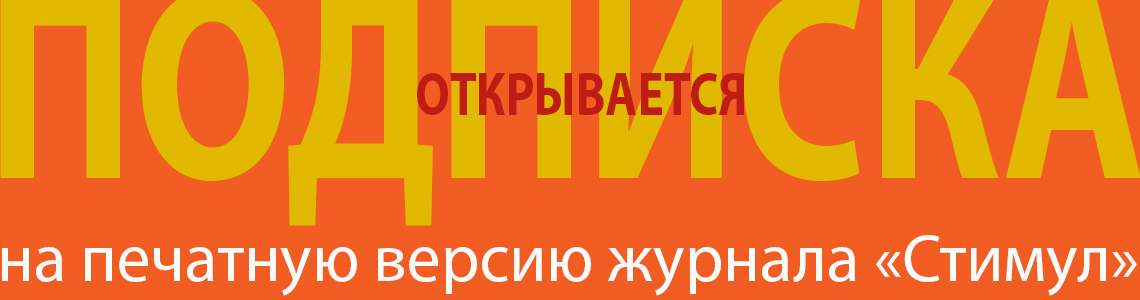Кто в России проектирует промышленные технологии?

Материалы рубрики читайте также в телеграм-канале «Техносфера, подъем!».
В России зарегистрировано около 150 тысяч организаций, занимающиеся проектными работами. По моему опыту взаимодействия с такими организациями могу только сказать, что это умирающие структуры. Причину их медленной деградации и потери потенциала я вижу в том, что проектная деятельность, приобретя в 90-х годах прошлого века статус одноразовой «услуги», лишилась главного: она перестала играть роль постоянного связующего звена между наукой, образованием и отраслями материального производства.
Очевидно, что по логике ведения любого хозяйства и развития техносферы именно в проектных структурах должны концентрироваться профессионалы, специалисты и исследователи, способные ставить конкретные задачи ученым, получать от них варианты технических решений и только на основе этого создавать рациональные промышленные технологии, не оказывающие негативного воздействия на будущие поколения.
Такая хозяйственная логика проектирования производственных систем и технологических процессов сегодня полностью исчезла, а в структуре проектной организации приоритетным стал не отдел проектирования, а отдел продаж. Возникающие потребности промышленных предприятий в необходимой проектной документации в определенной мере удовлетворяются «случайными» победителями конкурсных процедур или силами собственных проектных отделов, способных использовать находящиеся в их распоряжении проектные архивы для копирования или масштабирования.
Думаю, что, пока не поздно, надо выявлять свои промахи, ошибки и указывать на свои прошлые бестолковые решения, чтобы опомниться, одуматься и решиться на формирование совершенно иного порядка и правил проектирования промышленных технологий и производственных систем XXI века. Их сегодня нет, и это факт. Значит, надо создавать.
Отказаться от космического мусора
Для этого надо бы посмотреть на возможности и потенциал тех проектных структур, которые сохранились с того прошлого «мирного» периода, когда глобальная экономика развивалась ровно, климат был устойчив, а объемы потребностей — понятны.
Сегодня в составе той прошлой структуры функционируют пять участников проектной деятельности:
— инженеры-проектировщики НИИ и проектные бюро;
— заказчики от министерств, корпораций, холдингов и предприятий;
— инвесторы от банков, фондов и частные спонсоры;
— представители органов надзора и контроля;
— ученые университетов, академий наук и отраслевых НИИ.
Понятно, что все эти институты сосредоточены на том, чтобы хотя бы неплохо решать свою ведомственную задачу, а проектная деятельность для кого-то из них как воздух, для других — случайна, побочна или чужда.
Между всеми элементами проектной структуры практически нет никаких связей, обязывающих формировать проект новой технологии или требования к производственной системе с предсказуемыми последствиями их эксплуатации.
Например, если корпорация заказывает проект космической производственной системы (спутник), которая должна непрерывно функционировать 40 тысяч часов, то почему заказчик не может включить в техническое задание требование, чтобы система после окончания работы превращалась в «исходные молекулы», то есть она не должна превращаться в космический мусор. Кто сдерживает от этого разумного требования заказчика? Научных идей на этот счет много, технические решения тоже есть. Делаем простой вывод, что заказчик либо просто безграмотен, либо руководствуется какими-то ложными корпоративными интересами типа «мы всегда так делаем».
И можно привести множество таких примеров «будущего негатива» по всем производственным системам, которые мы размещаем для освоения каждой из шести областей окружающего нас пространства: космос, атмосфера, водная поверхность и природно-климатический ландшафт земли, а также подводная и подземная области. И надо сказать честно: везде у нас функционируют недоделанные и недодуманные технологии, которые оставляют следующему за нами поколению много неприятных последствий.
Для того чтобы придать хоть какую-то гибкость существующим проектным структурам, надо уже сейчас начинать их учить новым подходам, предлагать количественные, а не вероятностные показатели эффективности проекта, дать новые методики выявления источников опасностей и затрат в существующих технологиях. Думаю, что даже обращение к истокам проектной деятельности, к истории русской школы хозяйствования и проектирования окажет большое влияние на мировоззрение заказчика, инвестора и проектировщика. В первую очередь надо вспомнить концепции и принципы хозяйствования русских мыслителей и ученых, которые заложили основы рационального развития производственных систем и сформировали понятные количественные критерии их полезности и долговременной функциональной устойчивости.
Если предыдущие поколения русских инженеров и ученых могли доводить свои научные идеи до уровня промышленных технологий мирового уровня, то почему мы не можем делать так же? Как ни прискорбно, но новую безопасную и безотходную технологию синтеза или переработки сырья в полезные продукты уже никто не может создать. Мы сегодня ищем и не можем найти молодых инженеров-технологов, способных написать директивный технологический процесс или технологический регламент на безотходную и безопасную технологию. Оказывается, этому в наших университетах никто не учит, да и некому учить. Молодым инженерам сегодня трудно на производстве и в бизнесе именно по этой причине. Оказывается, они знают гораздо меньше, чем старшее поколение инженеров. А должно быть все наоборот.
Наличие в отдельных университетах научной дисциплины «проектная деятельность» совсем не гарантирует, что молодой инженер владеет методологией проектирования производственных систем XXI века, понимает цели и знает ограничения и нормы освоения окружающего пространства. В основном все знания по этой тематике ограничиваются понятиями «управление проектом», «риски», «экономическая эффективность» и «период окупаемости».
Нам нужна совершенно иная проектная научная школа, объектом изучения которой является производственная система XXI века. Ее структура и функции должны не просто «удовлетворять» чьи-то потребности, а делать это рационально, безопасно и с пользой для всех. Ведь кроме прибыли и выручки есть такое более важное понятие, как функциональная устойчивость системы, которая требует учитывать не только природно-климатические факторы, но и социальные и религиозные особенности региона ее размещения, а уже потом технико-экономические показатели.
Системность и отсутствие суетливости — вот два отличительных признака производственной системы XXI века, которые обеспечивают ее функциональную устойчивость. Системность ведения любого хозяйства основана на доступности ресурсов окружающего пространства и независимости от внешних угроз, а отсутствие «суетливости» хозяина основано на его уверенности в собственных силах и игнорировании различных зазывающих лозунгов типа «догнать и перегнать» конкурентов.
Думаю, что назрела пора не говорить, а вводить в университетах новую и достаточно востребованную научную дисциплину «методология проектирования производственных систем XXI века». Кратко я ее называю «проектология», и если грамотно выстроить научно-образовательный процесс для трех участников проектной деятельности — проектанта, заказчика и инвестора, то мы разрушим все «заборы», которые сегодня мешают наладить солидарное взаимодействие между наукой, образованием и промышленным производством.
Пять задач проектологии
Выделяются пять конкретных целей и задач, которые решает эта научная дисциплина.
Во-первых, мы сможем научить инженера-проектанта не копировать старые технические решения, а находить оптимальное из всего множества их вариантов для реализации научной идеи. Если у нас это получится, мы перестанем автоматически переносить в новые производственные системы при копировании и масштабировании старых технологий все скрытые и явные источники опасности и затрат. На выходе у нас получается не просто инженер-проектировщик чертежей, спецификаций и рабочей документации, а проектант-исследователь, знающий динамику и закономерности изменения параметров окружающего пространства, понимающий психологию потребителя продукта и владеющий навыками выбора из всего множества технических, энергетических, информационных и материаловедческих предложений наиболее разумного и рационального проектного решения.
Во-вторых, мы должны иметь не просто заказчика, а грамотного и ответственного Заказчика с большой буквы. Такой заказчик не должен следовать шаблонным требованиям стандартов по формированию текстов технических заданий. Он должен думать самостоятельно, не боясь принимать ответственность на себя и вместе с проектантом отвечать лично за проект и его последствия. Самое интересное, что сейчас ответственность с заказчика снята, так как все принимается комиссиями, на основе экспертных заключений и экспертиз. Для научного (а не экспертного) обоснования принимаемых заказчиком решений именно он должен формировать ежегодный перечень исследовательских, технологических и конструкторских задач. Поэтому главным помощником заказчика должен стать не устаревший стандарт, а ученый-исследователь со своей научной идеей и множеством вариантов технических решений для ее практической реализации.
Третья цель — показать и убедить инвестора в том, что использование для оценки экономической эффективности производственной системы устаревшей модели «черного ящика» уже становится бесполезным и рисковым делом. Сегодня математические и физические модели позволяют учесть реальные количественные (а не вероятностные) параметры изменения окружающего пространства и требования сферы потребления. Мы уже начинаем понимать вредность и ошибочность экономической теории и практики «расширенного» воспроизводства продукта, основанного на механических отношениях человека к окружающей среде. Мы сегодня должны не просто оценивать вероятность получения прибыли с учетом объема продаж, а смотреть гораздо глубже и учитывать одновременное влияние сразу нескольких «прыгающих» параметров внешней среды на функциональную устойчивость промышленного объекта. И такие модели интересны не только для проектирования перспективных производственных систем, но и для поиска вариантов продолжения жизненного цикла тех промышленных объектов, возраст которых уже перевалил за 50 и даже за 100 лет.
Четвертая цель новой научной дисциплины — научить технологов промышленных предприятий процедурам технологического аудита. По сути, мы должны уметь в старых технологиях XX века, да и при проектировании новых выявлять источники, которые генерируют затраты, издержки и опасности. Надо уходить от технологий, которые на 1 кг готовой продукции требуют более 30 кг исходного сырья и материалов. Если мы поймем разницу между «опасностью» и «безопасностью», то все потуги бдительных органов надзора по вечному «обеспечению промышленной безопасности» или соблюдению вероятностных норм ПДК покажутся довольно затратной игрой в кошки-мышки. Мы не должны жить в ожидании очередной аварии или «предбанкротного состояния», а заранее выявим в производственных зонах скрытые источники затрат и нейтрализуем их. Это тоже сегодня не все технологи умеют делать, но уже все понимают, что это гораздо выгоднее для всех.
Пятая цель — самая основная в науке о проектировании. Она касается функций и задач инженеров, исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов. Очевидно, что не может научно-образовательная система развиваться и совершенствоваться без взаимосвязи с производственной системой. Университетам нужна правильная коммуникация с индустрией, основанная не только на мелких грантах, но и на долгосрочных и осмысленных совместных проектах. Научные идеи не рождаются без образного восприятия прикладной задачи. Реальные потребности человека надо сначала увидеть, услышать и пощупать. Поэтому только свежий и непредвзятый взгляд стороннего наблюдателя на смесительное устройство или сварочный аппарат позволяет увидеть их несовершенство и сформировать новые научные идеи и технические решения. Мы должны научить студентов не только разрабатывать новую конструкцию продукта и его новые функции, но и проектировать новую технологию его производства, безопасную, одностадийную и безотходную.
Лучшие ученые-технологи России
Проектология должна дать инженеру знания о российской методологии проектирования полезных промышленных технологий, побуждающей его не к слепому копированию шаблонов, а к творческому поиску множества вариантов исполнения технических решений.
Я убежден, что у нас это получится. И наша история подтверждает мою убежденность в том, что высокого звания «ученый-технолог» достоин только тот, кто умеет довести свою научную идею до промышленной реализации.
Если мы знаем, что в XVIII веке таким ученым был механик А. Нартов, в XIX веке — металлург П. Аносов и технолог Д. Менделеев, в XX веке — химик С. Лебедев, врач Г. Елизаров и металлург Б. Лазаренко, то и в XXI веке мы должны знать имена тех, кто может быть достоин этого высокого звания — «ученый-технолог».
В связи с этим у меня есть предложение начать информировать читателей журнала «Стимул» о наших инженерах, аспирантах, преподавателях и технологах, в активе которых есть технические и технологические решения мирового уровня.
Возможно также показать примеры грамотных и ответственных действий заказчиков при реализации проектов и их высокоинтеллектуальных инвесторов. Это, конечно же, не конкурс и не соревнование, но имена лучших ученых-технологов мы должны громко назвать и объявить достойный приз за их умение проектировать рациональные технологии и создавать полезный продукт.
Критерий рациональности в нашем случае означает отсутствие при эксплуатации технологии негативных последствий для будущих поколений. С учетом этого критерия сегодня я могу предложить для оценки первые имена наших ученых-технологов, которые на основе своих научных идей создали такие технологии и получили полезные для всех продукты.
Перечень технологий мирового уровня, созданных учеными России в первой четверти XXI века
|
Автор научной идеи |
Промышленная технология |
Уровень реализации |
Источник информации |
|
Профессор Томского университета Анатолий Мамаев |
Рецептура радиопоглощающих материалов и метод их внедрения в металлические и тканевые поверхности |
Промышленная |
|
|
Аспирант кафедры водоснабжения и водоотведения Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Максим Новоселов |
Технологический процесс и установка для одновременной очистки подземных вод от радона, альфа-активности, железа, марганца, солей жесткости и углекислоты |
Промышленная |
|
|
Заведующий кафедрой органической химии Института наукоемких технологий и новых материалов Мордовского госуниверситета Сергей Кострюков |
Безотходная технология производства эфиров целлюлозы с низкой себестоимостью |
Пилотная установка для предприятий малотоннажной химии |
|
|
Профессор кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Николай Любомирский |
Малозатратная технология и уникальное оборудование для переработки накопленных отходов металлургического производства в полезную и дешевую продукцию для городского хозяйства |
Отработка в промышленных условиях |
|
|
Доктор технических наук, руководитель исследовательской группы Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А Евгений Шошин |
Технология изготовления широкого спектра продукции из одного вида сырья и на одном и том же оборудовании |
Отработка в промышленных условиях |
Источник: составлено автором
Темы: Техносфера